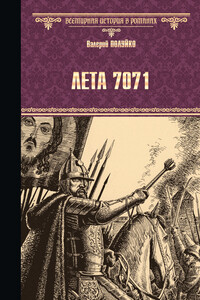Когда подходит это время — предобеденное — и в торговле наступает спад, торговый человек даёт себе послабку. Теперь можно и калач съесть, и к квасной кади наведаться, а при великой охоте и в кабак смотаться — хлебнуть полпива, и только полпива, ибо питьё покрепче враз отохотит от дела. Что уж тогда за торговля на хмельную голову?!
Конечно, есть у торгового человека заботы и поважней: и товар ходовой стараться не упустить, и к ценам прислушиваться, потому что они переменчивы, как погода, — всегда нужно быть начеку, чтоб не проторговаться; и когда он даёт себе послабку, он тоже не вне этих забот, но тогда отступает главная — забота о том, чтобы продать, а это и есть послабка.
Когда народ как волна — торговцу и в гору глянуть некогда. И это не только состояние, это и внутренний закон. Торговать, так по сторонам не зевать — вот его словесное выражение. Но когда наступает это пустое, леностное время, тогда можно позволить себе всё — и по сторонам поглазеть, и язык почесать — перелить из пустого в порожнее, да и просто побалагурить, позубоскалить, перекинуться с соседями скоромными шутками, а коль душа жаждет иного, так можно и самой мудрёной гово́рей потешить себя: всякие водятся тут говоруны, на любой выбор, и уж чем-чем, а разговорами торг преизобилен. Тревоги, горести, сомнения, надежды, восторг и радость, протест и недовольство — всё это неудержимо выливается в разговоры, и нет у московита занятия любимей и постоянней, чем эти неизбывные разговоры. Они — извечная его отдушина, его спасение и благодать.
Бывает, как затеят — сам чёрт уши заткнёт, а бывает, что и ангел заслушается. Но чаще — просто турусы на колёсах.
Разбитной, молодецки задорный коробейник, тоже давший себе послабку, от нечего делать задирает у Лобного места палаточников:
— Эй, рухлядь-трухлядь! Слушай, чего скажу!
— Ступай себе, — лениво говорят ему. — Наслушались уж!
— Скажу, чего не слышали ещё!
— Всё уж слышали... Не басурмане, поди.
— Всё, да не всё! — не отступается коробейник. — Вот крест-то на Ивана святого — как воткнули? Кто знат, а?!
С десяток голов непроизвольно поворачивается в сторону кремлёвской колокольни. Долго, молчаливо смотрят на её вознёсшийся к самому небу купол, подернутый золотистым туманом, — соображают. Наконец самый сообразительный прерывает молчание:
— Взяли да и воткнули. Вот как!
— Как — взяли?! — глумливо выпендривается коробейник. — Что, буде, наклонили и воткнули? Высочень-то кака! Поглянь-но! Ажно голова отламывается!
Головы мужиков снова задираются к небу. Молчание длится ещё дольше. Коробейник торжествующе ждёт.
— Ладно, сказывай — как? — сдаются мужики.
— Ишь-ка, сказывай! Я за то плату беру...
— Гли-ка нань! — изумляются мужики. — Никак, избезумил ты, парень? Не то свинья тебя родила!
— Кабы свинья, я брал бы помоями!
— Нахал ты, парень, медяное чело! — берут его мужики в работу. — Пришёл незван, поди негнан!
— Недран! — подправляют угрозливо. — Не то получишь киселя!
— Эх, дурьё-ветерьё, по лесу бежало, лесу не видало! Мне-то что?! Ноги, поди, не взаймы взял. А вот вам все мозги теперь вывернет, понеже неотступно гадать о том будете.
— Ступай, ступай, ялыман! Поищи дураков в Туле, они там сидят на стуле!
— Вы мне ещё челом в ноги ударите, чтоб я вас от того дзыка избавил! Токмо я тогда возьму вдвое! — предупреждает коробейник и горделиво удаляется.
Мужики, проводив его победными взглядами, на какое-то время успокаиваются, но, помолчав, почесав в раздумье бороды и затылки, вновь задирают головы.
— Леший его знат, как его туда воткнули?!
— Не на нашей памяти то было, что теперь гадать! Как воткнули, так и воткнули.
— Так любопытно же! Вот бестия, разор его разори! Теперь непременно возьмёт вдвое!
— Надобно было спросить, которую он плату хотел? Буде, сложились бы...
— Да забудьте! Нешто за такое платят? Мне, буде, любопытно знать, отчего у баб бороды не растут? Так нешто стать за то деньги платить? Или вот иное: отчего огонь всегда горяч, а вода всегда мокрая? Или вот ещё: отчего ржа серебро не ест? По миру пойдёшь!