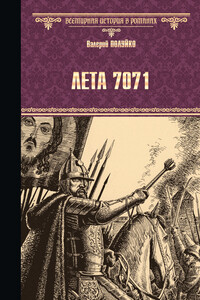Помыслы Мстиславского были совсем не о том, и свержение царя было для него только частью дела, только одним, пусть важным, но одним шагом на том пути, который он давным-давно наметил для себя. Ему, потомку великих литовских князей, были чужды холопьи страсти московского боярства. Его высокий ум не позволял довольствоваться низким, поднимал его на ту высоту, с которой он смотрел на мир совсем иным, особенным взглядом — взглядом Гедиминовича, в чьём сознании накрепко утвердилось убеждение в великом предназначении своего знаменитого рода, который должен был распространить своё влияние и на Русь Восточную, как он распространил это влияние на Русь Западную. Внуки и правнуки Ягайлы сидят на престолах Польши, Литвы, Богемии, Венгрии[88], должны они занять и московский престол. Тогда их миссия будет выполнена: под их властью окажется почти вся Европа и немалый довесок Азии.
Вот о чём думал Мстиславский, вот на что замахивался его разум — отнять престол у Рюриковичей! Не обязательно для себя, но обязательно для Гедиминовичей. А это значило схватиться не только с Иваном, это значило схватиться с самой Русью! Схватиться так, как с ней схватился Иван, а до него — его могущественные пращуры, ломавшие её нрав, её дух, её вековечную сущность, ломавшие религией, кнутом, огнём, плахой, виселицей — и не сломавшие!
И об этом думал Мстиславский. Он презирал Русь, свою невольную родину, презирал незлобиво, но тем искренней и глубже, считая её исчадием тупости и невежества, от которых её не избавило даже христианство, навязанное ей Рюриковичами. Но вместе с тем, будучи отчасти русским, и не тупым, не забитым, не невежественным, он понимал этот народ, чья кровь текла и в его жилах, понимал и отдавал ему должное: народ этот не удалось покорить ни германским рыцарям, ни татарским ханам, ни европейским государям, да и его собственные государи до сих пор не чувствуют себя полновластными хозяевами над ним.
Этого тоже не забывал Мстиславский, думая о грядущей борьбе. Он не мог знать её исхода, хотя и не испытывал страха перед ней, однако для такого человека, как он, незнание было хуже страха. Многое давило на него, и нужно было выбирать: либо отступиться, либо немедля действовать.
Отступиться он не мог: слишком прочно и глубоко укоренилась в нём эта дерзновенная мысль, ставшая не просто его поводырём, но самой сутью, единственным смыслом его жизни. Он не готовил себя в венценосцы, но знал, что, если московский престол будет добыт, и добыт его руками, ему воздастся в веках, и это значило для него гораздо больше, чем царский венец. Ради этого стоило жить, и от этого трудно было отступиться. Но когда пришла пора твёрдо и решительно действовать, он вдруг понял, что внутренне не готов, несмотря на то, что шёл к этому всю сознательную жизнь. И опять же, в нём говорил не страх, не безволие, а что-то такое, что давно зародилось и вызрело в нём незаметно для него самого, для его чувств, для его сознания, — может быть, это снова был плод его ума, но уже ущербный, нежизнеспособный плод, который, разлагаясь, отравлял в нём всё жизнеспособное, лишая его крепкой внутренней силы.
И он стал ждать. Не выжидать уже, как прежде, а ждать. Ждать чего-то в самом себе — то ли зарождения той внутренней силы, которая помогла бы одолеть теперь уже самого себя, то ли, наоборот, чего-то такого, что заставило бы отречься от всего, на что толкал разум. И он ждал, а ожидание принесло окончательный разлад с самим собой, и настоящий страх, и гнетущее отчаянье.
Он понимал: если не начнёт действовать сейчас, без промедления, то уже не сделает этого никогда, и прощай его мечта о торжестве Гедиминовичей, — и это усиливало отчаянье, усугубляло ту болезненную слабость духа, которую он неожиданно обнаружил в самом себе и так же неожиданно осознал, что она была в нём всегда, эта предательская слабость, которую он всю жизнь скрывал под разными именами — то осторожности, то рассудочности, то хладнокровия, ни разу не решившись заглянуть в лицо правде. Теперь он это сделал, рассмотрел себя изнутри и назвал всё своими именами и ужаснулся — не столько оттого, что чуть было не ступил на путь, по которому не способен был идти, сколько оттого, что вся сознательная жизнь оказалась прожитой единственно для того, чтобы наконец осознать свою духовную слабость и неспособность к действию.