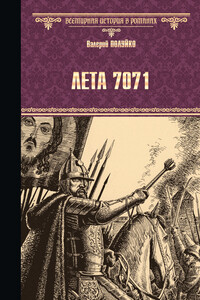Жестокая эта правда о самом себе, казалось, сокрушила в нём всё, даже и то, не ложное, не мнимое, а действительно существовавшее в нём, что служило ему опорой повседневно — не в тайных и высоких целях его, а в обыденной, ни на мгновение не прекращающейся борьбе за существование, за то ничтожное и суетное, из которого и создаётся свой присный мирок каждого человека. Он начинал страшиться, что теперь даже в этой житейской толкотне ему может недостать сил сохранить хотя бы то, что уже было отвоёвано. А сохранить хотелось, и не потому только, что высокое и первостепенное, ради чего, как думалось всегда, он должен был жить и жил, отступало, разрушая всё то, что ставилось и ценилось им гораздо выше суетного и обыденного, добытого походя в сутолоке жизни, но и потому ещё, что он любил жизнь — не просто инстинктивно, с безумным упоением, а осмысленно, глубоко, ревниво, через любовь к самому себе, к этому своему заповедному «я», особенному и неповторимому, которое и было для него источником неиссякаемого разнообразия жизни.
Он любил жизнь, любил всё, чем дарила она его: славу, почести, роскошь — и хотел сохранить всё это. В его жизни сейчас рушилось только первостепенное, тот высший смысл, составлявший главную ценность его «я», который позволял ему считать себя выше всех прочих, кто так же, как и он, дрался за место под солнцем, за хлеб насущный, за славу, за почести... Но, присутствуя в его жизни незримо, это первостепенное так же незримо и рушилось, а жизнь оставалась. Оставалась её явственность, оставалась любовь к ней, любовь к своему «я», которое хоть и было сведено с прежней высоты, однако же не низвергнуто столь низко, чтоб не заявлять о себе. Правда, ничто уже не могло быть как прежде: слишком суров был приговор самому себе и слишком многое было разрушено в душе, и прежде всего та самовозрождающаяся сила, которая способна была в полной мере противостоять окружающему миру. Повергнутый в отчаянье от сознания своей слабости, он впервые с необычайной остротой ощутил ту первозданную пустоту, развёрнутую подо всем живым в этом мире, в которой каждый стремится найти для себя опору — найти, добыть, вырвать у других, завоевать, чтоб не погибнуть, чтоб выжить... ВЫЖИТЬ! И только сильные находят эту опору, только сильные выживают, а он был слаб, и понимал это, и боялся, что пустота поглотит его. Но это не был страх обречённого, скорей всего, это вообще был не страх. Это было смятение слабого человека, переоценившего свои силы, а может, и не слабого — просто переоценившего свои силы.
Да, в нём говорили растерянность и смятение, перешедшие в отчаянье, но не страх, потому что страх парализует не только волю, но и разум, он делает человека беспомощным, жалким, мечущимся, как затравленный зверь, а Мстиславский вовсе не был таким. Он оставался и теперь всё тем же Мстиславским, каким его всегда привыкли видеть, и разум его продолжал работать всё так же трезво, чётко, целеустремлённо. Он даже продолжал наблюдать за Иваном, как и прежде, пристально и ревниво, и улавливал в нём тоже какую-то странность, необычность, словно и в его душе совершалась какая-то мучительная борьба, лишавшая его уверенности, решительности... Вместо того чтобы действовать — решительно, твёрдо и открыто, не таясь, как таились вокруг него другие, как таился сам Мстиславский, — действовать с мечом в руках, как и подобало государю, считавшему себя правым в делах и задумах своих, он почему-то медлил, таился, выжидал. Мстиславский, обращая взор в собственную душу, понимал, что Иван тоже слаб и недостаточно смел. Его замыслы и намерения были куда смелей его личной смелости, и человеческое в нём было совсем не таким, каким было царское, но в нём была страсть, неведомая Мстиславскому, и эта страсть заменяла ему и духовную силу, и смелость, она была неукротима, яростна, неистова, но — странно! — не бездумна, не опрометчива. Какой-то тайной связью соединялась она с его разумом, и было жутко, когда они начинали действовать сообща.
Казалось, и теперь, в минуту надвигающейся опасности, из Ивана выметнется это всесокрушающее неистовство, возмездное и мстящее, жестокое и беспощадное, и только злой помин останется от всего, что сейчас обступило его. Но нет, не прорвало его душу это яростное неистовство. Удержал он его в себе. Усмирил. Может, удавил, сам страшась его опустошающей, мертвящей силы, а может, видел и знал, что теперь уже недостаточно одной только страсти, и не испугает, не сокрушит она его врагов, потому что уж слишком хорошо узнали они его и слишком много их было теперь... Слишком много! Нужна была надёжная и крепкая сила, чтоб одолеть их, а силы-то этой у него и не было. У него её не было и раньше, но тогда не он стоял в центре борьбы и не с ним дрались бояре за власть. Они дрались друг с другом, не обращая на него внимания, а он разумно и счастливо пользовался этим. Теперь в центре — он! Нет больше Оболенских, дерущихся за власть с Шуйскими, и Шуйских, вырывающих её у Бельских, теперь есть он — государь всея Руси, а вокруг, как войско при осаде, —