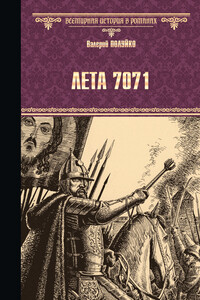Иван проводил его долгим торжествующим взглядом и, повернувшись к Челяднину, сказал со снисходительностью победителя:
— А ты всё молчишь, Челядня?
— Молчу, государь.
— И о чём же ты молчишь?
— О том, государь, что... не там курица снесла яйцо, где кудахчет.
Иван лукаво усмехнулся:
— О таковом и помолчать не грех!
Направляясь к Бельскому и потом, на обратном пути, уже едучи с ним в Черкизово, Мстиславский, охваченный тревогой и беспокойством, непрестанно думал и думал об одном и том же: лукавит ли Иван, замышляет ли что-нибудь, готовит ли западню или, может, действительно всё его поведение — лишь стремление придать своему отступлению мало-мальски пристойный вид?
С Бельским об этом он не говорил — не хотел бередить ему душу. Тому и так было о чём поразмыслить. Согласившись, хоть и не без колебаний, ехать в Черкизово, он теперь думал о том, как вести себя с Иваном, внутренне готовился к этому, и Мстиславский был рад, что, занятый собой, своими мыслями, Бельский не мешает ему. Да и мало было бы в том проку, возьмись они сейчас разбираться во всём этом вместе, соединив воедино свои тревоги, терзания и страхи, все свои «почему» и «зачем», такие разные и такие сложные, что найти на них общий ответ было просто невозможно. Мстиславский и на свои-то собственные вопросы не мог ответить однозначно. То ему казалось, что странность и загадочность поведения царя существуют только в его воображении и что он сам, от извечного своего недоверия к нему, задал себе и теперь пытается разгадывать несуществующую загадку, то вдруг в полном смятении начинал думать, что неспособен постичь даже малой толики государевых замыслов и что разум его, увы, вопреки собственным представлениям, не в состоянии сражаться на равных с разумом Ивана, с его изощрённостью и лукавством, со всем тем жестоким, коварным и неожиданным, что таила в себе его душа, всё его естество. Но хуже всего было иное. Когда он одолевал смятение, когда неверие в существование у царя каких-то тайных замыслов сменялось другим чувством, его ум, его мысль поднимались на такую высоту, что, казалось, уже ничто, никакие коварства и хитрости Ивановы не могли укрыться от всепроникающей зоркости его мысленного взора, и ему действительно многое удалось разгадать и многое увидеть. Однако это не столько помогало, сколько ещё больше усложняло задачу, ибо узнанное и разгаданное невольно заставляло искать похожее и в неразгаданном, и мысль его, как маятник, всё время колебалась из стороны в сторону, а истина находилась посередине, там, где он никак не мог остановиться, бросаясь из одной крайности в другую. Мстиславский так и не смог понять, что Иван не отступался, но хотел, чтобы отступились другие, отступились и перешли на его сторону, став судьями, гонителями и палачами тех, кто не отступился. За это он готов был простить отступникам все их прошлые провины и недоброхотства. С этим же расчётом он простил и Бельского, и если изо всех сил стремился скрыть это, то только потому, что боялся, как бы Бельский и прощённый не отказался от противления и вместо раскаяния и повины не стал открыто на сторону его противников. Но Мстиславский не понял и этого. Большой ум зачастую оказывается неспособным опуститься до простого, обычного, он обязательно ищет во всём высокое, изощрённое, необыкновенное, потому позволяет обводить себя на самом простом. Так вышло и с Мстиславским.