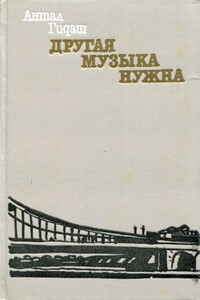— Некоторое время? — спросил я. — А сколько это примерно?
— Год или два, — ответил Бела Кун.
— Много!
А вышло тридцать четыре.
6
Трудное, горестное, иногда почти непереносимое чувство — тоска по родине. Поэту еще больнее, еще тяжелее оно достается.
Выпасть из гнезда родного языка, покинуть родные пейзажи, песни, людей, родителей, друзей, родное рабочее движение — все это нелегко. И если я все-таки нашел свое место, сохранился душой и телом, то лишь потому, что в Советском Союзе в те годы слово «политэмигрант» произносилось с бо́льшим почтением, чем, скажем, при Николае I слово «маркиз».
И это была не видимость. Мы состояли в одной партии с советскими товарищами. Вместе работали. С трогательной нежностью поправляли они нас, когда мы коверкали русский язык, любуясь нами, словно детьми, которые учат свои первые слова. Мы стояли рядом у станков, сидели рядом за письменными столами. У нас была единая цель. Мы вместе боролись за пятилетку и вместе — те, что остались живы, — шли против фашистов в Отечественную войну.
Нас обязывали к этому традиции, великое прошлое: в гражданскую войну около ста тысяч венгерских интернационалистов шли с красными знаменами против белогвардейцев и войск интервентов.
…Помню, в 1930 году мы с Василием Павловичем Ильенковым поехали делегатами на конференцию уральских пролетарских писателей. По дороге Ильенков заговорил о том, что у нас еще нет марша пятилетки и что надо бы его написать. (Ильенков знал, что в Музгизе вышло уже несколько моих венгерских революционных песен и маршей, что они исполнялись и по радио.)
Когда поезд мчал нас обратно из Свердловска в Москву, марш уже был готов.
Редколлегия журнала «Октябрь» — Панферов, Ильенков, Горбатов и другие торжественно, целой свитой, пошли провожать меня в Музгиз.
А год спустя марш уже пели школьники и рабочие, его пели на торжественных заседаниях, демонстрациях, им открывали парад на Красной площади. Куда бы я ни шел, везде слышал:
Гудит, ломая скалы, ударный труд!
7
Вскоре после моего прибытия в СССР, в начале 1926 года, был учрежден Союз венгерских революционных писателей и художников с центром в Москве. Я стал его секретарем. Одновременно работал в Институте Маркса — Энгельса, где был «обладателем» трех тысяч томов венгерского кабинета.
С 1929 года редактировал вместе с моим незабываемым другом Бруно Ясенским журнал «Интернациональная литература», выходивший на четырех языках, и работал в секретариате Международного объединения революционных писателей.
Я объехал всю Советскую страну. Бывали годы, когда я проделывал поездом по сорок тысяч километров.
Куда только не приходилось ездить… Вместе с Фадеевым, Павленко и Фраерманом побывал на Дальнем Востоке, с Погодиным — в Иваново-Вознесенске, со Всеволодом Ивановым — в Ярославле, с Ясенским — в Орехово-Зуеве, с Уткиным — в Казани, с Багрицким, Луговским, Арагоном — в Харькове, с Бехером, Пастернаком, Сурковым и другими — в Минске. Везде выступал, читал свои стихи и по-венгерски и по-русски; выступал и в Москве — на Трехгорке, на «Серпе и молоте», на заводе «Динамо», в Зеленом театре в Сокольническом парке, Политехническом музее, в Союзе писателей, в домах пионеров, в школах, на радио и еще бог знает где.
Мало кто из «иностранных» писателей сроднился настолько с советской литературой и с ее творцами, как я. Они были моими друзьями. Те, что живы, и поныне мои друзья. Только очень больно сжимается сердце каждый раз, как подумаю о тех, что уже ушли, — о Фадееве, Заболоцком, Луговском, Уткине, Павленко, Багрицком, Голодном, о грузине Тициане Табидзе, армянине Эгише Чаренце, осетине Чермене Бегизове, поляке Бруно Ясенском… Не буду больше называть имен. Их слишком много. Но я всегда чувствую, что эти люди унесли с собой и кусок меня самого, кусок моей жизни.
Мне их всегда недостает. И особенно когда хожу по Москве, по Переделкину, где прожил столько лет. Вспоминаются часы вечерних прогулок. Мимо меня проходят с двух сторон заснеженные молчаливые сосны переделкинских дорог. И когда кто-нибудь издали показывается на безлюдной дороге под печальным сиянием луны, во мне каждый раз вспыхивает воспоминание. Вот тут навстречу мне шел Фадеев — это было столько-то лет назад; Ясенский с Аннушкой Берзинь — это было очень давно, а вот совсем недавно — Луговской… А вот сразу же после войны Заболоцкий, очень серьезный Заболоцкий, он шел всегда чуть закинув голову.