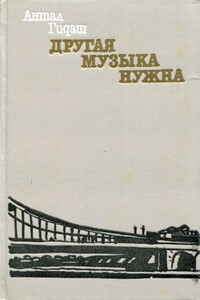Могу ли я забыть Полевого, Полевых? Сколько раз сиживал я у них, когда бывало тяжело в жизни! Сколько раз слышал его ободряющее: «Ну-ну, старик… Ничего, все образуется!..»
А очень милого Самойлова, Слуцкого… И приходили еще более молодые, которых и сейчас вспоминаю очень часто, читая их стихи. И в воображении хожу по московским бульварам, в сиянии электрических лун, просвечивающих сквозь июньскую листву…
Вспомнить ли Дальний Восток, дом отдыха на 19-м километре, где как-то однажды после обеда, крикнув: «Скоро вернемся!» — Фадеев повел меня гулять? И мы шли, шли по тайге. Он рассказывал о волочаевских днях, о Спасске, о своей юности, и так за разговорами мы через четыре часа оказались вдруг во Владивостоке. Вошли в город, как и те партизаны, о которых рассказывал он.
А в доме отдыха поднялась паника: «Заблудились в тайге». Павленко поднял всех на ноги. И только поздно ночью, когда, побывав уже в ресторане и в театре, явились мы к знакомым, только тогда узнали, сколько волнений доставил наш поход, закончившийся тоже на Тихом океане.
И как не вспомнить мне молодого украинца Максима Терентьева, который в конце 1927 года в Гагре, гуляя со мной под пальмами в солнечный, но все же грустный для меня день, хотел непременно подарить мне свою папаху, потому что, мол, «и Тарас Шевченко носил такую».
Многое и многие проходят у меня перед глазами.
Но я должен сказать еще о тех моих близких друзьях, которые до сих пор считают себя ифлийцами. Все они работают на разных этажах и в разных помещениях советской литературы — кто пониже, кто повыше, кто еще выше. Когда-то для меня они были юношами. Но не нынче-завтра я буду сочинять веселые письма к их пятидесятому дню рождения для утешения их и себя самого. Для меня они те же юноши, и когда я думаю о них, вспоминаю только по именам, хотя у многих из них уже звонкие фамилии.
Да, жаль, что все еще не нашли такое искусственное волокно, которым можно было бы накрепко привязать годы юности, чтобы не уходили, «как Азорские острова».
Неужто кто-нибудь думает, что это было больно только Маяковскому?
Кстати, о Маяковском, о «самом живом из всех живых». Это он сказал: «Землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя».
Для меня, кроме Венгрии, есть и советская земля, которую я «вовек» не смогу разлюбить.
На протяжении тридцати четырех лет моей жизни музыку моих радостей сочинял советский народ. За горести же в ответе не он. 1917 год я считаю днем своего рождения. Без него я был бы не я, а кто-то другой, которого и представить себе не могу.
8
Двадцати шести лет уехал я из Венгрии и шестидесяти вернулся снова на ту землю, язык, песни, людей которой мало того что не забывал никогда, — в сиянье дали, в огне тоски по родине они казались мне еще более прекрасными, сверкающими, и я все больше их любил.
Но так как, по-моему, бездейственная любовь только пустое толчение воды в ступе, то я вместе с моей женой и товарищем по работе создал у себя в Москве небольшую Венгрию. И в квартире на улице Фурманова появилось на свет множество книг венгерских прозаиков и поэтов, которые заговорили по-русски устами лучших русских советских поэтов.
Поистине символическая картина: на улице, названной именем русского писателя-интернационалиста Фурманова, где на одной стороне улицы висит его мемориальная доска, а на другой — мемориальная доска венгерского писателя, героя русской и испанской гражданских войн Матэ Залки, — на этой улице и возродились к жизни на русском языке, языке мирового значения, труды венгерских классиков.
Сколько радости и удовлетворения испытали мы за эта почти полтора десятка лет напряженного труда! С тех пор как существует венгерская литература, никогда еще поэты другой страны не отдавали ей столько любви и таланта.
О чем еще написать?
Три года живу я у себя на родине. Наблюдаю за окружающим миром, за солнечным сияньем, за весной, зимой, за возникающими иногда бурями.
Пишу. Для того чтобы моему народу, да и всем людям, лучше жилось на свете. Все, что я написал до сих пор, было порождено именно этим стремлением: те песни, что уже тридцать — сорок лет поют у меня на родине; те стихи, что печатались анонимно или под псевдонимом, ибо во времена Хорти на мое имя в Венгрии было наложено вето; те стихи, что печатались и попадали даже в школьные учебники в Советском Союзе, а теперь и в Венгрии.