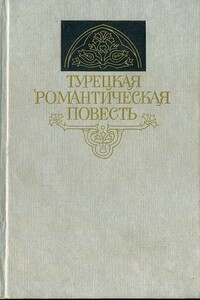— Худеште разы би, уж расстараюсь, Сорик-оглу. До пахоты, глядишь, и обделаю дело. А коли не выгорит — тебе весть подам.
Достает Сорик-оглу кошель серебра, Джано подает. Тот головой замотал.
— Ни к чему это. Где деньги, там шайтан.
Поворотил Сорик-оглу коня на дорогу, ударил плеткой, и скоро гости незваные скрылись из виду.
Проводил их глазами Джано, потом вздохнул глубоко.
— Вот и оттянули времечко. Пока он очухается, уж народ далече будет…
Стал я мула навьючивать, Джано меня остановил.
— Постой, — говорит. — Не след вам тотчас в путь пускаться… От этой собаки Сорика-оглу всего можно ждать. До обеда повремените, а там наш человек вам окольную дорогу укажет.
* * *
Приезжаем домой, и что же видим? Замок на двери сломан, все вещи искорежены, изрублены, литейный прибор вдребезги разбит. Как увидала Джемо свое разоренное гнездо, от горя обезумела: по дому бегает, за голову хватается, то плачет, то проклятья разбойникам шлет. Замучилась вконец, упала мне на грудь, заплакала.
— Не плачь, моя козочка, — говорю. — Не плачь, курбан. Мемо тебе все купит, еще краше у нас в доме будет. Не лей слез понапрасну, пожалей свои глазки. А разбойника мы найдем, он еще свое получит.
Вытерла она кулаком глаза.
— Когда узнаю, кто это сотворил, своими руками глаза ему выцарапаю, крышу ему на голову обрушу.
На шум соседи сбежались, головами качают.
— Аман! Кто такую подлость учинил!
— А вы не видели, — спрашиваю, — чужих возле дома?
Ни один не признался. Каждый клянется:
— Пусть лопнут мои глаза, не видел. К празднику готовимся. Хлопот полон рот.
Пожаловался я жандармам. Пришли они, потоптались в доме, на бумаге что-то накорябали.
— Кого подозреваешь? — спрашивают.
— Откуда мне знать, дорогой? — говорю. — Знал, сам бы мерзавца за ворот тряханул.
— Подумай! Такое может сделать только личный враг. Есть у тебя враги? Воры бы вещи взяли, а тут ничего не взято, только поломано да порезано.
Кто бы это мог быть? На соседок указать — не сделают они такой пакости. Уж сколько лет рядом живем, худого от них не видал. На тетку подумать, так она с той поры, как убежала к своим, в нашу деревню и носа не кажет. На кого ни скажешь, все грех на душу примешь.
— Ты уж уволь меня, ищи сам, дорогой.
Говорю я это жандарму, у самого сердце словно сверлом сверлит: враг у меня объявился, да сметливый враг, коварный. До поры до времени затаится, свой час выжидает, а уж нанесет удар, то в самое темечко. Без промаха бьет. Он и дядю порешил, теперь, видать, до меня добирается.
Понял жандарм — не добьешься от меня толку, обозлился.
— Раз ты никого не подозреваешь, нам тут делать нечего.
Повернулся и пошел — отпугнул я его. Соседи тоже по своим домам разбрелись. Подхожу я к Джемо — она у окна стоит, закаменела вся.
— Давай-ка, курбан, — говорю, — приберемся в доме, пока ночь не настала.
— Нет, Мемо, — отвечает, — не лежит мое сердце теперь к этому дому. Уйдем отсюда, уйдем скорей!
— Куда же нам идти?
— А мне все равно.
Бросилась ко мне на шею.
— Уйдем, Мемо! Дядю твоего убили и тебя убьют.
— Куда пойдешь в такой час?
— Давай к отцу на мельницу подадимся. Засветло успеем добраться.
— Успеть-то успеем, да нельзя нам нынче отправляться.
Говорю, сам розы щек ее целую.
— Что так, Мемо? Или мула жалеешь, загнать боишься?
— Нет, мой цветок душистый, нет, моя газель. Ради тебя тыщу мулов загнать не жалко. Сама посуди: коли мы нынче же свое гнездо бросим да убежим, народ над нами потешаться станет. «Чуть припугнули их, — скажут, — они и дали деру». Как потом в лицо людям смотреть? Уж давай переночуем здесь. А завтра с рассветом — в добрый путь!
Смирилась Джемо. Не стали мы у соседей тюфяки просить. Постелили на пол тряпье, какое под руками было, сели на него. Достали из сумы гёзлеме, грецкие орехи, чокелек[35]. Закусили.
Посадил я Джемо к себе на колени, стал ее песней укачивать.
Беда приходит не одна,
Настали злые времена,
Одно могу: с тобой обняться,
Одной тобой душа полна…
Уставила Джемо глаза на огонь, одна рука — в моей, другая косой играет. Вижу — не до песен ей. Оборвал свою песню, потрепал ее по щеке.
— Что запечалилась, лань моя?