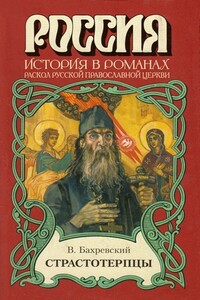— Сей ли инок с бунташными речами вёл вас на Варварку?
Оба вперились в Неупокоя. Лица страдальчески перекосились, бадейка памяти со скрипом вытягивалась из тёмного колодца. У одного прорезалось осмысленное, рот приоткрылся. Не понимает, дурень, что, выдав Неупокоя, себя заложит — бежал со всеми! Слово готово было вылететь вороном... «Нет! — огненными литерами полыхнуло в мозгу Неупокоя. — Не вем!» И как бы лучом или облачком проникло в памятливого дурака, и что бы тот ни мыслил, не мог произнести иного:
— Нет, государь. Не вем!
Арсений ощутил опустошительную усталость и тоску. Закрыл глаза, прижался к ледяной стене. Странно, что в голосе приказного тоже послышалось облегчение:
— Добро, берите сапоги, оболокайтесь. Ждите.
— Чего ждать, милостивец?
— В тюрьму отведут вас для подлинного разбирательства. Кто на подозрении, велено задерживать.
Дети боярские были не в том состоянии, чтобы протестовать. Намотали онучи и уплелись в соседнюю палату. Боброк возвестил:
— Одне сироты остались.
С людьми простого звания, сиротами государевыми, приказному не разбираться. Забрав у злобного писца бумагу, он задумчиво перечёл ответы допрошенных. Кивнул Перхурову:
— Ступай на волю, старче. Даст Бог, дойдёшь до Бориса Фёдоровича. Стража!
В сенях загрохотали сапоги и рукояти бердышей. Приказный спохватился:
— Ты из какой обители, калугер?
— Меня уж забыли там, — отказался Неупокой.
— Ин, тоже в тюрьму. Покуда память прояснится.
Писец загундел, приказный отмахнулся:
— Ишшо я палача стану утруждать! Захотят поставить на пытку, на то иные люди есть. Мы своё свершили.
На удивление меняется улица, если идёшь не по пружинистым мосткам, а по разбитым плахам проезжей части, под охраной. Отошла утренняя служба, народ расходился из церквей. В утихомиренные души лезли дневные злобы, суета, а тут ещё и развлечение: ведут в тюрьму добротно одетых мужиков и черноризника. Видимо, дело государево. Неупокой надвинул куколь, чтобы случайно не узнали. Вели быстро, морозец подгонял. Негреющее солнце лезло, оскальзываясь, в ледяную синеву, не находя ни облачка закутаться, прикрыться...
Холодно было и в тюрьме с отпотевшими кирпичными углами, в каморах на семерых — десятерых, пропитанных застойным, бедственным запахом грязных тел, поганой лохани и ещё чего-то невыразимого, что отличает места насильственного скопления животных и людей. Воротило от затирухи из прогорклой муки и карасей не первой свежести. Даже вода затухла, узникам лень заполаскивать бадейки, а надзирателям — понукать. Тюрьма испытывает не столько голодом — узников водят за подаянием, а холодом и скукой.
Просить на улицах было не стыдно, русские милостивы к любому душегубцу в оковах. Ходили по унавоженной Никольской и белоснежным берегом Неглинной, норовя к началу или концу обедни. У старшого был короб, куда прохожие от чистого сердца кидали то очерствелую горбушку, то кус третьеводняшнего пирога, просфорку, денежку. По возвращении часть денег доставалась страже, прочее тратилось на приварок и вино, куски получше съедали сами, оплесневелое пускалось на квас или в свинарник при тюрьме. Грех было не держать свиней при таких отходах. Немного сала доставалось и сидельцам.
На допросы не вызывали. Видимо, власти отнеслись к крамоле как к неразвившейся болезни, надеясь на самоисцеление. Заклиниваться на ней в разгар войны было невыгодно, и без того у иноземцев возникали каверзные вопросы. Наладился тюремный быт, страх вытеснялся безнадёжностью. В тюрьме можно сидеть до полного забвения, если родные не похлопочут. Покуда лучше, чтобы не хлопотали.
Настало воскресенье, щедрый на подаяния день. У ближней к тюрьме церкви Георгия Страстотерпца толпа даже помяла стражу, и, показалось Неупокою, не без чьего-то наущения. Очень уж дружно прихлынули серые людишки, их подпирали сзади, возле старшого с коробом заварилась свалка, сторожа кинулись туда, между толпой и узниками стало пусто. У Неупокоя уже пружинили колени, сердце рванулось... Внезапно перед ним явился знакомый комнатный холоп Нагого. Смотрел остерегающе, растопырив ладони: не рыпайся, отец святый! Сквозь ругань донеслось: