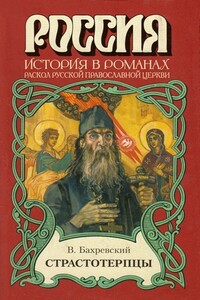С последними словами игуменьи Ксюша оглянулась, увидела и узнала Михайлу. Не доверяя себе, озарилась каким-то радостным сочувствием, отразив смутные чувства Михайлы в промытом зеркале: она жалела его, но и радовалась, что именно она может помочь ему, облегчить боль. Не знала, как обратиться: дяденька Михайло? Теперь она для него — матушка Калерия.
Просто спросила тихо, будто вчера расстались:
— Чем скорбен?
— Голову пулей зашибло. Рана пустая, а не подняться.
— Голову?
Тонкие брови сошлись на переносице. Михайлу и согрело сочувствие, и зловеще потянуло сердце.
— Изгаги нет?
Меньше всего хотелось говорить с Ксюшей о тошноте, о том, как его вывернуло вчера после глотка горелки, принесённой под полой товарищем. От слабости да отвычки, решил Михайло. При Ксюше хотелось выглядеть здоровым, легко переносящим боль, но и повод для сочувствия чтобы не вовсе исчез. Вдруг выговорилось:
— А ты похорошела, Ксюша.
Ресницы — длинные, игольчатые — завесили глаза. Дрогнувшая рука нащупала наперсный крестик.
— Ксюша умерла, Михайло. Убили её. Я — инокиня Калерия. А про изгагу я не зря спросила. Мы эдаких ран довольно насмотрелись, шапки у всех железные, пуля на излёте не пробивает, клевец да сабля не берут, но от удара мозг повреждается. Немецкий лекарь говорит — мозг подобен студню, прости Господи. Легко сотрясается. Туда не заглянешь, один знак дурной — изгага. Кость головная может опухать наружу или вовнутрь. Тогда...
— Болеть должно, — обеспокоился Михайло.
Сердце кто-то посасывал, потягивал. Нехорошо.
— Немец говорит, мозг не болит. На всё Божья воля, Михайло. Стану молиться за тебя.
Игуменья медленно выплыла из палаты. Ксюша перекрестила Михайлу, улыбка слабо вострепетала на её губах и угасла раньше, чем он ответил на неё. Закрыв глаза, Михайло видел эти губы. Упруго налитые земляничным соком, почти бесстыдно выделяясь на строгом лике, обрамленном чёрным платком, они одни изобличали природный жар, тлевший, если не бушевавший в недрах этого маленького тела... Вошла послушница, возбуждённая посещением игуменьи, стала зачем-то потчевать клюквенным питьём. После полудня солнце заглядывало в их окошко, тьма под веками медленно розовела, в ней улыбалась и хмурилась, что-то успокоительное, ласковое произносила Ксюша. И хотя от питья вновь поднялась изгага, страх не вернулся, ведь Ксюша обещала помолиться за Михайлу. В её молитве та же сила, что прорывается во всяком движении её скованного чёрным тела, в неугомонной сочности девичьих губ, в самой её душе, так много пережившей и одолевшей. И так же одолеет она болезнь и приступы смертной тоски Михайлы.
Снились ему подвалы Свинусской и Покровской башен с просветами подошвенных бойниц, куда он пытался выглянуть, пролезть, а у него не получалось. Было не страшно, а равнодушно-безысходно. Вокруг не было живого, только кирпич, земля, железо. В мирные дни такие сны толкуются зловеще. Михайло объяснил свой сон беспокойством за город, невозможностью принять участие в боях. Раненых не оставляли без вестей, известно благотворное влияние хотя бы и небольших побед на заживление ран. Сёстры рассказывали.
Пролом заделали камнями, брёвнами, скреплёнными особо приготовленным, быстро схватывающимся раствором. Стена стала пониже, но с внешней стороны её защищала щебнистая осыпь. Раздолбить её пушками вряд ли удастся. Деревянную стену подняли, усилили дубовым выносным острогом, углубили ров. Поляки стали вести подкопы под дальними пряслами, в сторону от Свинусской, долбили ломами разборную скалу. Опытные слухачи ходили по подстенным штольням — «слухам» — с решетами, на дне которых насыпаны горошины. Вблизи подкопов горошины катались, вздрагивали. Псковичи взорвали два встречных заряда, обрушили кровлю на головы поляков. Те не унимались, из Риги обещали порох.
Осада выдыхалась, из королевского лагеря во Псков бежали люди, чаще литовцы. Самое время государю ударить всем войском, сколько его стоит по городам от Юрьева до Оки. Воеводы гнали мелкие отряды, обречённые на гибель при всякой попытке прорваться в Псков. Главные силы расслабленно дремали во глубине России, заранее смирившись с превосходством поляков и наёмников в открытом поле. Лишь по реке Великой в город проскочили две барки с сотней детей боярских — ночью, дружными выстрелами загнав в кусты дозоры Замойского. Две следующие попали в ловушку, немногие доплыли, доползли до города. Одного из счастливчиков с пулей под лопаткой положили рядом с Михайлой. Опамятовавшись от боли и потери крови, рассказал: плыли ночью, переднюю барку вели рыбаки, знавшие русло Великой как свои сени, правили по маковкам церквей, а на подходе — по чёрной громаде Крома над устьем Псковы... Вдруг из воды, смолисто мерцавшей под звёздами, поднялась змея — так показалось вперёдсмотрящему. С обоих берегов отваливали лодки с вопящими, вслепую стреляющими немцами. Барка врезалась в цепь. Хитрец Замойский приказал перегородить Великую двумя цепями, притопить их в воде, а как появятся русские, поднять. Нашим — ни вперёд, ни назад. Течение развернуло барки, поволокло к берегу, там уже ждали — под стеной Запсковья. Попали в плен или погибли до полусотни детей боярских, при них сотня боевых холопов и стрельцы. Сосед Михайлы догадался податься не к городу, а вверх по Пскове, далеко огибая стену, потом — по болоту к Гремячей башне. Полз, аки гад, по осклизлым кочкам и наступая пятерней на жаб, они верещали по-бабьи. Не поберёгся, услышав русские оклики на Гремячей. К ней нужно плыть через Пскову. Плеском всполошил венгров-дозорных, поймал пулю. Из водяных ворот Гремячей выскочили сторожа, спасли, благо от ледяной воды кровь из раны не сильно вытекала. А выпил горячего вина, закипела ключиком...