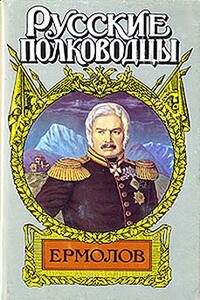— Да-да! — подхватил, трезвея, Алексей. — Вот именно, Алена, с которой я прожил тринадцать лет (роковое для моей семьи число), ушла от меня еще менее понятная, чем тогда, когда я на ней женился. А теперь страдает, раскаивается…
— Ничего! — отрезал Тимохин. — Получила именно то, что хотела.
— А все-таки я ее жалею! — тихо, но твердо сказал Алексей.
— Нет! — медленно произнес Тимохин. — Скорей всего ты жалеешь не ее, а себя самого. Понимаешь?
— Братцы! Умоляю! Прекратите философию!
Перед ними возникло странное существо, где знакомая голова хозяина с радостными оловянными глазами была навинчена на высокий, богато расшитый золотой канителью ворот темно-зеленого генеральского мундира столетней давности с орденами Белого Орла и Станислава с мечами.
10
Последние несколько месяцев Мудрейший приучал других к тому, что умрет. Он еще двигался, разговаривал, даже пытался петь. И уже стоял т а м, на самом гребне, где слева было все глуше и отдаленнее шумевшее море жизни, а справа — темная и все менее ужасавшая его пропасть смерти. Жизнь вытекала из него не только неуклонной потерей физического вещества, но и утратою интереса к ближнему, живому, конкретному. Его волновало теперь только далекое, слабо знакомое — не живописное, а геометрическое. И когда Алексей вез его после операции из госпиталя, Мудрейший с неожиданной живостью сказал:
— Никак не дождусь двадцать восьмого февраля…
— Да что такое будет, папа? — недоумевая, воскликнул Алексей.
Он поглядел на сына со строгим осуждением.
— Как же ты не помнишь? Выборы в Англии!
А через пять дней после этих самых выборов Алексею днем позвонила плачущая соседка:
— Скончался!.. Николай Митрофанович!.. Только что…
Он кинулся на Тишинку.
Оказалось, когда Лена была на службе, Мудрейшему стало плохо с сердцем, он, видимо, пытался дотянуться до телефонного аппарата, разбил его и потерял сознание. Соседка, которую Лена попросила навещать отца через каждые два часа, пришла, когда он был еще жив. Она перевернула его на спину, начала растирать грудь, и лицо у Мудрейшего порозовело. Но «скорая помощь» спешила сорок пять минут — ровно академический час, — и врач констатировал смерть: за пятнадцать минут до их приезда.
Мудрейший строго лежал на кровати, подняв острый подбородок с подвязанной челюстью, быстро обрастая седой щетиной. Плакала безутешная Лена, кляня себя, что оставила отца без призора именно в этот день.
— Я с работы прибегаю, а о н и ему зачем-то челюсть подвязывают… — говорила она. — Я-то, думаю, чтобы чем-то помочь ему, что он еще жив… Как же я не почувствовала, что с ним должно случиться…
И тогда ее десятилетняя дочка сказала:
— Мама! А ты помнишь, что говорил дед вчера ночью?
И она в с п о м н и л а…
Ночью их разбудил громкий разговор в соседней комнате. Лена встала, накинула халат и со смешанным чувствам ужаса и любопытства вошла к Мудрейшему.
— Дед! Ты с кем это тут беседуешь?
— Как с кем? — бодро откликнулся Мудрейший. — Да с отцом!
— С чьим еще отцом? — не поняла Лена.
— С моим.
— Да где же он?
— Вон, на шкафу сидит, зовет к себе…
Теперь она без конца пересказывала разговор — соседям, Алексею, маме. Валентина Павловна, проведшая подле Мудрейшего трое суток после госпиталя, все повторяла:
— Как он просил меня: «Не уезжай! побудь со мной!» Но ведь у меня своя семья…
— Он уже этого не помнил, мама, — утешал ее Алексей.
— Да-да, но если бы я знала, что все произойдет так скоро…
— Бабушка! — воскликнула племянница, страшившаяся войти в комнату, где лежал Мудрейший, но теперь заглянувшая туда, не переступая порога. — Смотри! Дед улыбается!
Мудрейший лежал преображенный. Лицо разгладилось, рот еще больше запал и нос уточкой опустился, стал прямым, красивым. Губы слегка раздвинулись в явной — слабой и как бы виноватой улыбке. Валентина Павловна почти прошептала, словно боясь спугнуть ее:
— Он так улыбался всегда, когда видел что-то доброе…
11
Еще стояла долгая московская зима. А он ночами мечтал о дожде и, если засыпал, видел Коктебель, розоватую пену тамариска в свежей майской зелени, станицы чаек и дымящееся жемчугом море. Но сон переносил его в московскую квартиру на Тишинку. Ему снились говорящие собаки, и каждый раз он удивлялся тому, что так поздно завел собаку и как теперь будет хорошо и неодиноко. Наконец он пробуждался среди ночи, смотрел из глубины в окно и неясно бормотал: