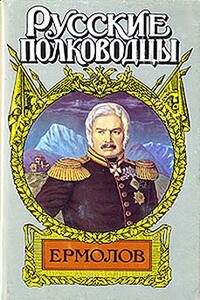— Ну, если Алексей здоров, то ты, мой милый, патологически здоров, — устраиваясь за столом, сказал Тимохин. — Настоящее бегающее бревно!
— Вот это сказал! — привстал с табуретки друг. — Нет, сегодня же, как проклятый Акакий Акакиевич, все запишу! Как гвоздь забил! Правда, истинная правда!
— Так уж вы нуждаетесь в правде, — усмехнулся Тимохин, чуть выпятив нижнюю губу. — Человек чаще всего способен понимать о себе правду лишь в форме самой грубой лести.
Издатель поперхнулся, высасывая рачью клешню, и отхлебнул для успокоения пива из немецкой глиняной кружки.
— А как же тогда писать? — задал риторический вопрос Алексей уже приятно затуманенный вином и пивом. — И нужно ли писать обо всем. Я знаю о близких людях такое, что, кажется, бумага не выдержит этого, задымится, затлеет…
— Жизнь и страшнее и прекраснее, чем ее изображают, — лениво сказал Тимохин, положив себе на тарелку ломтик швейцарского сыра. — Ты, например, танцевал с манекенщицей, а твой отец лежал в морге. Что ты, злодей? Нет, обыкновенный человек. Ты и любил его не больше и не меньше, чем другие дети своих отцов…
— Ты жесток, потому что говоришь правду, — ответил Алексей и задумался.
Когда отец умер? Не тогда, когда Алексей увидел его лежащим с подвязанной челюстью. Н а ч а л о умирания было много раньше: ветшая и разрушаясь, отец приучал к мысли что скоро умрет. И все-таки, все-таки физической способности сразу воспринять его смерть у Алексея не оказалось. Нехватка отца, ощущение того, что его уже никогда не будет пришли потом, вместе с осознанием своей неоплатной вины перед ним, когда долгими ночами, тщетно пытаясь заснуть, Алексей шептал: «Прости, прости меня, и дай тебе бог царство небесное…» Только тогда он начал мучить и казнить себя за все — и за то, что отказался взять старого отца к себе, и за то, что пьянствовал в дни после его кончины. 5 марта отец умер, а 8-е, женский праздник, Алексей провел с Инной в шумной и веселой компании. Он казался себе необыкновенно ловким, сильным, крутил манекенщицу, пьяно улыбался, но где-то на дне сознания ясно различал отца, лежащего на холодном каменном столе, так что, потом, придя в морг, вспомнил, что видел его именно таким: со странными трещинами, идущими от заушин к затылку — от трепанации, проделанной студентами-практикантами. Никаких орденских знаков у отца не нашлось, все куда-то подевалось в безалаберной тишинской квартире. И к дешевому суконному пиджаку прицепили единственную сохранившуюся медаль — «За победу над Германией» с профилем Сталина. Друзья не дали Алексею нести гроб, мама с отчимом и родными шла позади.
— А что, у вас тут еще маленький был похоронен? — с пьяной веселостью спросил у Алексея могильщик, когда процессия достигла ямы.
— Мой брат… Умер еще до войны…
— Ничего не осталось, — с той же интонацией продолжал могильщик. — Ни щепки гробовой, ни косточки. Вот только!
И он подбросил на лопате две новенькие, лоснящиеся резиной подошвы детских ботиночек.
— Что там такое, Аленька? — спросила, подходя, заплаканная мама.
И, загораживая могильщика, Алексей торопливо ответил:
— Да вот монетку старую нашли…
И медленно возвращаясь в квартиру издателя, в просторную кухню, к столу под огромным сувенирным отлакированным лангустом, привезенным из какой-то Южной Америки, он сказал:
— Значит, это нельзя доверить странице?
— Бывают не только неправильные ответы, но и неправильные вопросы. Литература все-таки не жизнь, а перед жизнью, природой ты — ничто со своими жалкими силенками. Может быть, это для литературы н е п о д ъ е м н о…
Издатель между тем заскучал от их разговора и незаметно удалился.
— Пошел к своим орденам, — помолчав, сказал Алексей. — Как он, в сущности, одинок.
— А ты?
— Я ищу, все хочу жениться, да никак не получается. Почему? Не могу понять! Колеблюсь перед решением, хоть и знаю, что дальше медлить нельзя, некуда…
— Идеал разрушен, — холодно ответил Тимохин, — а другого уже не можешь создать.
Алексей налил себе водки:
— Грязь отпугивает.
Тимохин быстро возразил:
— Любовь всегда в грязи. Но грязь-то живая, она и пачкает только сверху. Оттого и о любви живой писать стыдились, то есть, стыдились писать ее в грязи, как будто для любви это страшно. Так когда-то лакировали войну. Писатель за столом превращался в романтического барана, который любил уже не женщину, а собственные ощущения. И потому лгал. А о н а уходила от него загадкой…