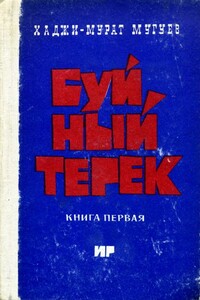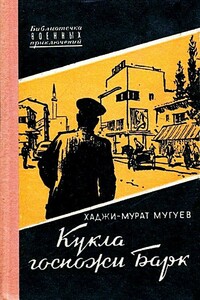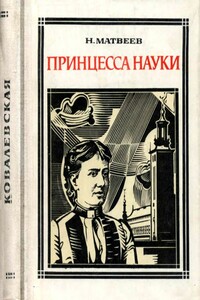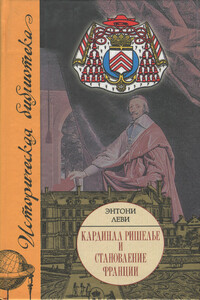Он засучил рукава черкески, расстегнул бешмет, обнажил шашку и, взяв в левую руку пистолет, крикнул:
— Аллах поможет храбрым!.. Ля илльляхи иль алла!.. — и выпрыгнул через широко распахнутое боковое окно башни.
Булакович неподвижно стоял на том самом месте, откуда увидел Кази-муллу. Прапорщик ошеломленно смотрел на башню, вокруг которой роились сбегавшиеся отовсюду русские солдаты.
«Значит, он здесь, не ушел… остался с другими, — взволнованно думал Булакович, не сводя глаз с бойницы. — Он погиб…» — с тоской подумал прапорщик, восстанавливая в памяти выражение глаз, строгое и вместе с тем доброе лицо Кази-муллы.
Везде: и в Черкее, и под Внезапной, и при последней встрече с ним в чеченском хуторке — чувство благодарности и восхищенного уважения к этому человеку не покидало Булаковича.
— Он погиб… уйти уже невозможно, — глядя на саперов, закладывавших мины под башню, тихо проговорил он.
— Вашбродь, остерегитесь, они оттеда в упор бьют… Назад, назад, вашбродь!.. Сюда идите, тут за саклями лучше!.. — кричали солдаты, видя, как прапорщик стремительно шагнул вперед и побежал к башне.
— Молодец! — одобрительно сказал один из солдат. — Прямо под огонь кинулся, и ничего… уцелел.
— Его счастье, а дуром лезть не годится… — сердито ответил кто-то из солдат, тщательно прицеливаясь в окутанную дымом бойницу.
Но прапорщик не видел опасности, как не слышал и возгласов солдат. Его бросило на опасный, необдуманный шаг чувство, какое бывает у людей, кидающихся в огонь или в воду, желая спасти или защитить близкого, родного человека.
— Эй, эй, в сторону!.. С ума сошли, что ли?! — подбегая к нему, закричал поручик-сапер. — Скорей за угол, за камни… Сейчас мины взорвутся, — и, увлекая за собой ошеломленного, полного бессильного отчаяния Булаковича, офицер крикнул: — Ложись!..
Прапорщик как вкопанный стоял на месте, кажется, даже не слышал сапера. Он видел, как из бокового окна показался имам, как взлетела над солдатскими штыками его фигура, как десяток штыков остервенело кололи распростертое на земле тело Кази-муллы.
— Туши запалы, заливай огонь! — вдруг неистово закричал саперный поручик. — Не давай взрыва!.. Они, как тараканы, сами кидаются из башни!..
Солдаты, кто забрасывая землей, кто затаптывая ногами, погасили взрывные шнуры. Они глядели на свалку, возникшую под стенами башни, где пехотинцы вместе с казаками и горскими добровольцами добивали прыгавших из башни мюридов.
Вслед за имамом выпрыгнул Шамиль, за ним аульский будун, затем чеченский мулла Бештемир-эфенди.
Оставшиеся в башне открыли пистолетный и ружейный огонь. Они, не прячась, высунулись из окна и стреляли из пистолетов в гущу солдат, окруживших Шамиля.
Один из тенгинцев всадил штык в грудь муллы, другой ударил штыком Шамиля. Шамиль с размаху разрубил ему голову и вторым ударом опрокинул набегавшего на него грузинского волонтера. Штык выпал из раны, и Шамиль, срубив еще одного солдата, бросился по улочке. За ним кинулись двое солдат, но будун, бежавший следом, убил одного, другой отскочил в сторону и выстрелил в Шамиля. Пуля сбила папаху. Будун из пистолета уложил и этого солдата и побежал за Шамилем.
— К реке, к камням!.. — закричал он.
Шамиль на бегу оглянулся и, узнав будуна, свернул в улочку, где не было русских.
Огромный солдат, вылезший из сакли, увидел двух бегущих горцев, бросил свой тюк и изо всей силы швырнул камень в Шамиля. Камень попал в раненое плечо. Обливаясь кровью, бледный, задыхающийся от бега, Шамиль был так страшен, что солдат бросился обратно к сакле. Шамиль застрелил его из пистолета и, обессиленный, медленно пошел к реке.
— Скорей, скорей, Шамиль! Проклятые гяуры еще возятся у башни… Скорей… Будет поздно! — умолял будун, поддерживая терявшего силы Шамиля.
Занятые грабежом, усталые от боев, опьяненные победой, солдаты не преследовали их.
На берегу реки будун уложил среди камней потерявшего много крови Шамиля. Всю холодную ночь он просидел возле впавшего в беспамятство наиба, а утром с помощью пятнадцатилетнего мальчика, тоже прятавшегося в камнях, перетащил на другую сторону бившегося в лихорадке полузамерзшего Шамиля. К вечеру они были в далеком ауле.