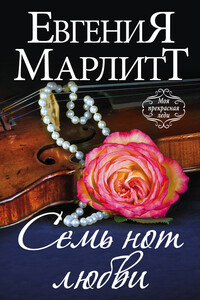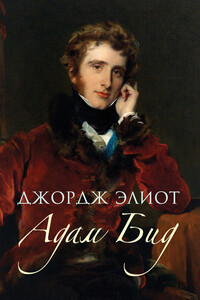Гофмаршал мгновенно встал на ноги.
— В моей людской, за моим столом?
— Любезный дядя, и на людскую, и на стол, мне кажется, и я имею некоторое право, не так ли? — сказал спокойно Майнау. — Даммер привез мне известие из Волькерсгаузена и может возвратиться туда только завтра. Неужели же вынудить его голодать в Шенверте? Он сделал глупость, попавшись тебе на глаза, но здесь он с моего позволения.
— А, понимаю! Ты ведь филантроп и, верно, устроил в Волькерсгаузене исправительный дом, нечто вроде колонии преступников. Очень хорошо!..
Гофмаршал опять опустился в свое кресло.
— Даммер забылся пред тобою. Само собой разумеется, его тотчас же удалили из Шенверта. — Майнау говорил с невозмутимым спокойствием. — Но ведь ему многое пришлось терпеть. Мы не должны забывать, что имеем дело с людьми, а не с собаками, которых наказывают кнутом за естественное для них поведение… — Густая краска, залившая его лицо, свидетельствовала о том, что у него воскресла в памяти сцена, когда он, вспылив, забылся до того, что поднял руку на человека. — Вместе с ним пострадал бы и его невинный старый отец. Даммер получил строгий выговор и переведен в Волькерсгаузен. Вот мы и квиты!
— В самом деле? Ты думаешь? Заключен мир между гофмаршалом фон Майнау и негодяем! Ну, хорошо, хорошо, пусть все идет своим чередом, но и у самой длинной нитки есть конец… Потрудись на этот раз выехать первым: я не желаю, чтобы твои бешеные животные скакали за мной.
— Я жду жену, дядя.
Почти одновременно с этими словами послышался шелест шелкового платья, и Лиана сошла в вестибюль.
Майнау предупредил ее, что дамы должны быть в бальных туалетах, и она надела свое затканное серебром подвенечное платье. Большие изумруды из ее ожерелья блестели в волнах ее роскошных золотистых волос, придерживая цветки белых фиалок.
— Ах, какой сюрприз нашему двору! — воскликнул гофмаршал. Он был взбешен: ему и в голову не приходило, что она тоже поедет. — Allez toujours, madame![24] — сказал он, быстро отодвинувшись с креслом, чтобы пропустить ее.
Лиана, видимо, колебалась: ей не хотелось проходить мимо разволновавшегося старика.
Майнау подал ей руку и вывел из вестибюля.
— Моя невеста мила, как Белоснежка, но прекрасное лицо ее печально, — шепнул он ей нежно на ухо.
— Мне многое надо рассказать тебе; мне кажется, что я ступаю по раскаленным углям. Если бы мы поскорее могли вернуться домой!
— Терпение! Я постараюсь побыстрее соблюсти формальности при дворе, а потом умчусь оттуда, держа в объятиях свою возлюбленную.
Он помог ей сесть в экипаж. Серые рысаки рванули с места, а за ними крупной рысью поскакали гнедые лошади гофмаршала.
В столице привыкли смотреть на второй брак Майнау, несмотря на знатное происхождение молодой женщины, как на мезальянс. Многие полагали, что ее взяли в замок в качестве ключницы и гувернантки, а кто-то рассказывал, что она в черном шелковом переднике, со связкой ключей в руках прохаживается по кухне, погребам и прачечным… И это баронесса фон Майнау, супруга самого богатого человека в государстве!.. Все были возмущены этим. Боже, как очаровательно наивна и неопытна была в подобных вещах первая жена, как неотразимо привлекательна и с каким достоинством умела она держать себя! Она была не госпожой, а феей, благородной лилией своего аристократического дома! Она явилась на свет только для того, чтобы для нее плелись дорогие кружева, приготовлялось лучшее шампанское и чтобы осчастливливать тех, кто будет носить ее на руках, украшать ее стройную фигурку и служить ей. Если бы кто-нибудь спросил ее, где находится кухня в Шенверте, то она, прелестная и в гневе, ударила бы дерзкого хлыстом. А вот в конюшне она была как у себя дома, как в своем будуаре, и даже знаменитые жасминовые духи не могли иногда заглушить запаха конюшни, которым пропитывались ее платья; но это было так аристократично и так оригинально! Второй жены барона никто в столице не видел; знали только, что она высокого роста и рыжая, а воображение дорисовывало и широкие плечи, и большого размера ноги, и красные руки, и неизбежные веснушки… К тому же все привыкли к тому, что барон Майнау живет в столице холостяком, и на последнем большом приеме на лукавый вопрос, как поживает его молодая жена, он ответил, пожав плечами: «Я думаю, что хорошо; я три дня не был в Шенверте…» В довершение всего, никто не сомневался, что его отъезд означает, что развод — дело решенное… И вдруг он входит в концертный зал герцогского дворца под руку с молодой женщиной, одетой во все белое, — платье, белые атласные туфельки, цветы в волосах. Все существо ее дышало такой белоснежной, строгой и такой холодной красотой, как будто это была ледяная королева со снежных гор.