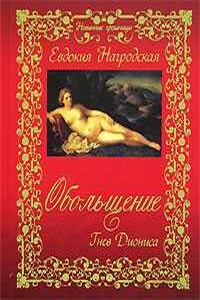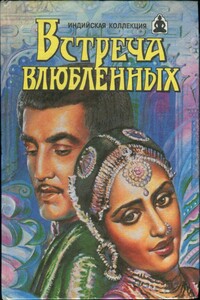Аня отходит от двери.
«Теперь он ее уверит! Ей так хочется поверить!» — думает она, и губы ее насмешливо кривятся.
— Тебя просят к телефону.
— Это, Лида, верно из сапожного магазина. Скажи, что я зайду сегодня! — отвечает Аня, считая белье, принесенное от прачки.
— Нет, это какой-то Григорьев, говорит — по делу.
Аня бледнеет. Как он смеет звать ее, когда она здесь, в семье, в доме ее матери!
Аня возмущена, оскорблена, испугана, и голос дрожит, когда она спрашивает:
— Что вам надо?
— Это вы, Анна Романовна?
— Да. Что вам надо?
— Я не узнаю вашего голоса.
Она хочет сказать, что он не должен, не смеет говорить с ней здесь, но она боится, что кто-нибудь из домашних услышит ее слова, и, помолчав, резко говорит:
— Говорите скорей, я занята.
— Анна Романовна, моя жена согласна на развод…
— Какое мне дело…
— Аня, я вас умоляю, дайте мне возможность загладить…
Что он — с ума сошел? Понимает же он, что слушать я могу, а отвечать мне нельзя, ведь я не одна в квартире… а он опять говорит о своей идиотской любви… Повесить разве трубку…
— Г-н Григорьев, — говорит Аня растерянно, — я, право, занята…
— Аня, дорогая, придите сегодня…
— Невозможно.
— Ну дайте мне возможность видеть вас на улице, на минутку…
— Завтра…
— Где?
Дурак! Как она ответит — воя Оля уже суется послушать.
— Завтра зайду сама — вечером; простите, я занята, — и Аня вешает трубку.
Это он мне предложение делает!
Аня трет лоб.
Кажется, по житейскому кодексу ей надо радоваться, скорей соглашаться, скорей соглашаться и… всегда… всю жизнь «выкупать векселя».
Но векселей осталось всего четыре — и потом свобода…
Но ведь, по кодексу, — жизнь моя испорчена…
А чем она, в сущности, испорчена? Испорчена сознанием всего происшедшего, а этого не поправишь браком.
А «внешним образом» — чем эта жизнь испорчена?
Та же семья, те же заботы повседневные, мелкие, хозяйство, уроки с Женей и Котиком…
Одно только: она не может выйти замуж. Да она никогда и не собиралась замуж.
А если я полюблю?
Это все глупости. Если она полюбит и ее полюбят, она скажет всю правду. Неужели любящий ее человек не оценит ее поступка?
Нет, брак без любви — купля и продажа. Она продала себя, но не навсегда. О нет, не навсегда.
Там осталось только четыре векселя, и опять она будет жить и дышать свободно и всех любить по-прежнему. Это охлаждение временное. Она сама гадкая, скверная. Да, скверная: она с ужасом замечает, что равнодушие к ней домашних ее злит, обижает, ей хочется им иногда крикнуть: «Да знаете ли вы все, что я для вас сделала!»
А мать теперь еще суше и даже враждебно относится к ней, подозревая, что она покрывает грешки отца.
«Да, я покрываю его, но для твоего же покоя, мама!»
— Мне нужно поговорить с тобой об очень важном деле, Аня, но я боюсь: ты еще донесешь маме и выйдет история.
— Ну и не рассказывай.
Аня взглядывает на Олю, усевшуюся на край стола, и снова опускает глаза в книгу.
— Да надо же мне поговорить с кем-нибудь…
— У тебя есть подруги, друзья.
— Конечно, есть. О своих делах я бы и не стала разговаривать с тобой, а это дело семейное, касающееся нас всех.
Оля произносит эти слова очень торжественно, хотя ее поза и нарушает эту торжественность: она сидит на столе и болтает ногами.
— Нас всех? — тревожно спрашивает Аня.
— Да. Папа отказал мне и Лиде в деньгах. А нам нужны платья, скоро бал у Платоновых. Лида с этим помирилась, она теперь так занята своею любовью к этому лохматому музыканту, что помирилась, — ей не до бала, я мириться не желаю, я хочу ехать на этот бал, папа обещал! Платье будет стоить какие-нибудь пятьдесят-шестьдесят рублей.
— Странная ты, Оля. Если папа отказал, значит, у него нет денег.
— А ты, «блаженненькая», в этом уверена?
— Да, уверена. Даже на хозяйство он мне этот месяц дал очень мало, у нас долги в лавках, и я не могла заплатить жалованье прислуге.
— А скажи мне, куда он девал деньги, полученные за процесс Арнольдсона?
— Процесс еще не кончен…
— Нет, он кончен, это всем известно, и отец третьего дня получил двадцать пять тысяч.
— Третьего дня? Ну, значит, отец не успел вчера дать нам денег.
— Мы с Петей сегодня утром говорили с ним и требовали денег. Он выгнал нас и сказал, что он не даст ни копейки.