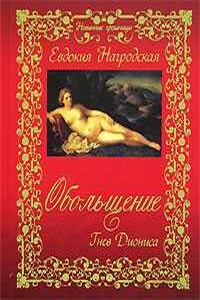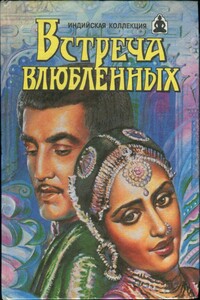У Варвары Семеновны была «одна правда», и такая узкая правда. Все было разложено по ящичкам, а если какое-нибудь понятие не лезло ни в один из них, она волновалась, выходила из себя и, не объяснив, а может быть, и сама не поняв, расстраивалась, выходила из себя.
У нее была такая определенная вера. Раз навсегда она поставила себе жизненные правила и все, что хотя бы отдаленно противоречило этим ее понятиям, считала или ненужным, или преступным.
У нее были свои авторитеты в литературе, в искусстве, в науке. Она их приняла раз навсегда. Они были и есть, а остальное «от лукавого».
«Если бы мать была религиозна, — думает Аня, — какая бы из нее великолепная вышла игуменья монастыря! Да, будь она религиозна и воспитай нас в этом направлении, она казалась бы нам „логичной“ в своей нетерпимости, импонировала бы нам, и мы бы слепо повиновались ей».
А теперь?
О, если бы у нее была другая мать! Более грешная, с более широкой правдой!
Вот в эту бы минуту припала бы она к ее груди, рассказала бы все свои муки, все свое горе!
И, может быть, та, другая мать, в ужасе, в отчаянии, но обняла бы ее, как обняла Соню Мармеладову ее мачеха… Раскольников поклонился Сонину страданию. А кто может поклониться ее?
Она не спасает от голода свою семью, а сохраняет ей только «привычную роскошь». Только честь, а может быть, ложное понятие о «чести семьи».
Она, сама не голодная, не презираемая, в тайне совершает продажу своего тела.
И нет святого страдания, нет «красоты жертвы».
И этого утешения нет у нее!
Нет даже самого главного: нет обиды и оскорблений, нет грубого, пьяного покупщика. Ее встречают, как царицу, говорят ей о страсти, о любви, о безграничном восхищении…
А вчера пятый вексель ей отдали «даром».
И она дрожит и боится одного. Боится, что отвращение начинает сменяться чувством равнодушия… э, мол, все равно.
А раз все равно, где же заслуга? Где жертва? Где хотя какая-нибудь искра «красоты поступка»?
Хоть бы уйти куда-нибудь! Уйти от этих мыслей, от одиночества в этой любимой большой семье.
— Аня, а Аня!
— Что тебе, Петя?
Петя подсаживается к Ане и обнимает ее за талию.
— Тебе что от меня надо, Петя?
— Почему «надо»? — удивляется он.
— Да так. Когда же ты бываешь ласков со мной, когда тебе ничего от меня не надо? — говорит она грустно.
— Что это ты? — спрашивает Петя. — Я не привык от тебя слышать такой тон.
— Какой тон?
— Лирический… как у Лиды, — насмешливо произносит он.
— Гм… ну, что же тебе надо от меня?
— Конечно, денег, chère soeur[5]!
— Ты же недавно получил от отца свои тридцать рублей?
Петя свистит.
— Куда же ты дел в неделю тридцать рублей?
— Ах ты, простота!.. Ты меня уж выручи, Аня: на этот раз мне, серьезно, очень нужны деньги.
— Откуда же я возьму денег, Петя? Вы все получаете от отца так называемое жалованье — я одна не получаю.
— А из «хозяйственных»?
— У меня это время ужасно мало денег — у папы задержка в получках… я даже задолжала в лавке.
— Черт знает что такое! — вскакивает Петя. — На эту испанку у него есть деньги…
— Петя!
— Да что Петя! — передразнивает он ее. — Послушала бы ты, какую нотацию он мне прочел, когда я вчера сунулся попросить у него денег: и мот-то я, и пустой мальчишка. Другие, мол, живут на тридцать рублей… Я сам знаю, что живут! И я стал бы жить, если бы знал, что эти деньги, как некоторым моим товарищам, присылает бедняк-отец, урезывая себя во всем… При таких обстоятельствах я даже отказался бы совсем от этих денег — кормился бы работой!.. А тут? Я прекрасно знаю, что меня лишают этих денег только потому, что ублажают себя! Сам наслаждается жизнью, тратит тысячи на женщин, а мне отказывает в четвертном билете!.. Я молод, я хочу жить, пользоваться жизнью, а ему пора уже грехи замаливать… Возмутительно! Слушай, нет ли у тебя хотя десятки?
— У меня нет ни копейки, Петя!
— Э, черт! — и Петя заходил по комнате.
Аня тихо перебирала клавиши пианино.
— Я дома просидел целую неделю, — жалобно заговорил он, — просто сил нет, такая тощища… Все ходят, как сонные мухи, а чуть вечер, все разбегутся в разные стороны.
— Отчего ты и сестры не соберете ваших знакомых, как прежде бывало, — ведь было весело?