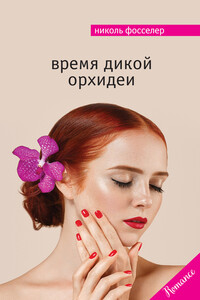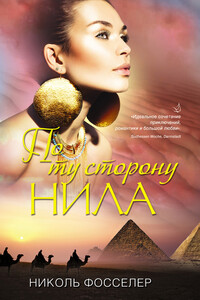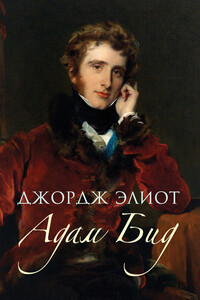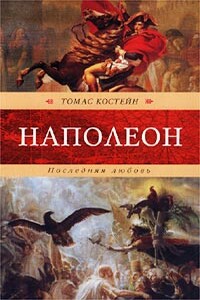Ее словно налитые свинцом веки поднялись и опустились, потом с трудом поднялись снова. Неясные расплывчатые тени, которые медленно выплывали из тумана. Где-то рядом ворковала и нежно поддразнивала кого-то Тереса, кого-то она громко целовала, тихонько напевая что-то нежное. Потом положила ей в руки какой-то сверток, и Салима долго на него смотрела, пока не сообразила, что это новорожденный, весь сморщенный и помятый. Глазки спрятаны за толстыми складочками, губки округлились, как будто хотели произнести совершенно круглое «О», чтобы поведать всем о своем изумлении.
Высокий тонкий звук вырвался из горла Салимы, недоверчивый и удивленный, но столь же и восхищенный. Она умолкла, переполненная совершеннейшим счастьем.
За это никакая цена не была слишком высокой.
Осторожно прижала она этого человечка к себе, эту жизнь, которая была такой юной и такой хрупкой.
Нет ничего, чего бы я не отдала, нет таких страданий, кои я бы не претерпела, нет ничего дороже для меня, чем это маленькое существо.
Ее дитя. Ее и Генриха.
Случилось чудо, думала Салима, разглядывая сына. Настоящее чудо.
Чудо, наполнявшее ее благоговением. Чудо, от которого сначала ей было даже не по себе. Как могло ее тело произвести на свет нечто такое, что было создано ею и Генрихом и все же совсем иное, уже отделенное от нее самостоятельное существо? С собственной волей, собственным языком, жестами и мимикой, которую сначала она не понимала и которую должна научиться понимать.
Она видела, как росли другие дети. Много детей. В Мтони, в Бейт-Иль-Сахеле, в Кисимбани. Салима всегда думала, что у нее достаточно знаний, думала, что за свою жизнь видела предостаточно детей — у многочисленных матерей или с няньками. И только теперь она поняла, что собственное дитя может долго оставаться незнакомцем и надо хорошенько узнавать его. Хотя Салима и родила сына, но его матерью она становилась постепенно. День за днем, ночь за ночью усердно ткала она нити, связующие ее и малыша. И зачастую ее охватывала гложущая сердце ревность, когда ее сын лежал у груди своей индийской кормилицы, которую выбрала Тереса. Однако пока Салима набиралась мужества, чтобы восстать против обычаев и кормить сына самой, молоко у нее пропало. Постепенно сын стал смыслом жизни Салимы, которую она вела в Адене.
Весь декабрь и январь, пока их сын, ее и Генриха, рос и взрослел, он то плакал, то дарил ей улыбку, от которой Салима таяла; сначала он кряхтел, пищал или гулил, потом стал лепетать или даже что-то бормотать; его черты лица, его явные предпочтения, как и неприязнь к чему-то, постоянно менялись — он был, как океан, — столь же многолик и переменчив.
В феврале ее нашло письмо от Генриха, в котором он сообщал, что сейчас остановился на Сейшельских островах, — восточнее Занзибара, — находящихся в британском владении, и что хочет основать собственную компанию «Рюте и К°. Раковины каури» [8]. Водившиеся на Сейшелах в неимоверных количествах, похожие на фарфоровые яйца самых разнообразных расцветок — от бело-желтых до коричневатых, — в Восточной Африке они были редкостью. Такой редкостью, что они там служили изысканными украшениями и даже использовались вместо денег, которые можно было обменять на любой товар. Торговцам каури, которые доставляли раковины с Сейшельских островов в Африку, они приносили существенный доход, и Генрих не хотел упускать такой отличной возможности. Он не сообщил Салиме, когда она в точности может рассчитывать на его возвращение, лишь то, что он приедет так скоро, как только сможет.
Сказать, что Салима чувствовала себя одинокой, было нельзя; со своим полуарабским, получеркесским происхождением, изящно одетая в европейское платье, в смешанное общество Адена она вписалась как нельзя лучше; благодаря ее открытой и искренней манере держаться она быстро заводила новые знакомства, а ее очаровательный маленький сынок, который всегда смеялся и очень редко дичился посторонних, придавал ей особое обаяние.
Только в Адене Салима поняла, как сильно они с Генрихом связаны. Как глубока и сильна их любовь. Если в Кисимбани она могла считать часы, когда он заключит ее в объятия; если в Каменном городе она хотя бы знала, что он рядом — пусть и в доме напротив, — то в Адене она отчетливо ощутила пустоту — ей невероятно его не хватало. Ночами ее тело мучительно тосковало по его объятьям, как будто каждая клеточка его страдала от иссушающей жажды и голода. А днями она отчаянно жаждала, как манны небесной, услышать его голос, услышать его смех — но вынуждена была довольствоваться воспоминаниями. Это было больше, чем страсть. Без Генриха даже в самой маленькой радости, в каждом миге счастья не было полноты ощущений, всегда была трещина, заполненная тоской. И все же с ней была небольшая частичка Генриха — их сын.