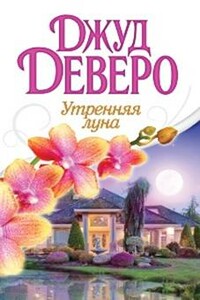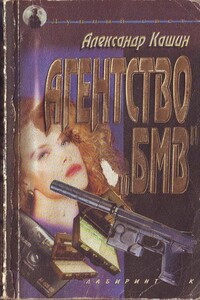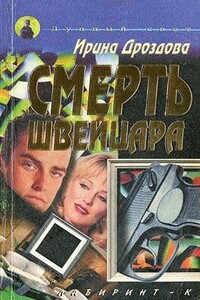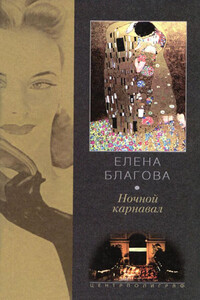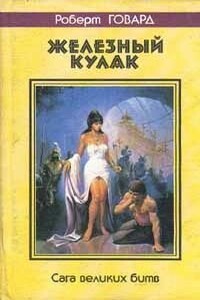И гроза шла, она шла неотвратимо; уже все небо было заволокнуто пухлыми, клубящимися серо-синими тучами, мгновенно изменив жаркую ласку на холодное, пронизывающее бешенство, и тучи мчались, как на пожар, все сильнее сгущаясь, и тьма плотнела, ярчела, а одна туча, выкатившаяся из-за пантикапейских холмов, была уже густо-черная, с золотым ярким, слепящим ободом по краям; эта туча как раз стояла на западе, против солнца, и она выглядела как траурный плат с золотой вышивкой по краю. Черный плат набрасывал ветер на землю, и все на земле темнело, все дрожало от страха – все до мельчайшей травинки. От страха – и от радости. Дождь! Сейчас пойдет дождь!
Сухие розовые молнии ударили из черной, с золотой каймой, тучи. Гром загремел почти мгновенно. Гроза была совсем рядом, а дождя все не было. Неужели это будет сухая гроза – таких много бывает летом на юге, в Крыму, на Тамани?.. Зарницы блистали часто и резко, как сабли, резали зловеще-серое небо, мелькали в глазах магниевыми вспышками.
Светлана держалась руками за палатку. Не за их с Романом палатку. За палатку, в которой лежал Ежик.
– Славка!.. Тент кухонный снесло!.. Сейчас утащит в море!..
Было поздно. Распорки и тент уже катились вниз, с обрыва, в море, из котла, перевернутого ветром, вылился суп. Буря! Настоящая буря!
– А нас всех не утащит?!.. держитесь, дорогие мои, хоть за траву, как звери когтями…
Гарпун неистово заржал. Бедный конь. Все звери боятся стихии. И человек – это зверь. В минуты древнего ужаса он становится просто отчаянным зверем, малой птахой, щепкой, несомой по ветру, сухим дрожащим листом. Он впадает, как ручей, своим маленьким отчаяньем в огромное и торжествующее отчаянье природы, видящей праздник во всем, и даже в смерти, в разрушеньи. Он пытается схватиться руками хоть за что-нибудь. Нет ему спасенья.
– Славочка!.. Котел держи!..
– Держу, Серега, меня бы кто подержал!..
Ливень хлынул внезапно, когда все уже думали, что это сухая гроза. Он хлынул, будто разверзлись хляби небесные, и накрыл сразу все вокруг сплошной, победной серебряной стеной. Ливень обрушился, как обрушивается античная колонна. Он упал сверху, с зенита, холодным и прозрачным, тяжелым ртутным сгустком, и так сильно хлестал по земле, будто хотел пробить ее насквозь. Славка, ловившая на ветру кухонный котел, не успела спрятаться в палатке от ливня. Она закричала от паденья на нее сверху тяжелых слитков воды, как кричат побиваемые плетьми, батогами.
– А-ах!.. А-ах!.. О-о-о-ох!..
Ливень бил и хлестал, ярился и торжествовал, он повелевал, он царил. Он распростерся над истомленной от жажды, выжженной насквозь, потрескавшейся, как губы в жару, землей громадным серебряным шаром, вставал над ней хрустальной ледяной стеной. Славка ринулась с котлом в руках в палатку. Она вся выпачкалась в саже.
– Ох, вот этот шпарит!.. – прокричала она с восторгом. К ее мокрым губам приклеилась прядь волос. – Как в кино!.. Будто бочонки с водой над головой опрокидывают!..
Светлана юркнула в палатку Ежика. Роман вошел следом, весь уже мокрый до нитки – с ног до головы. Его лицо сияло.
– Наконец-то, – выдохнул он. Светлана протянула руку и погладила его висок. – Знатный ливень. Теперь напитает землю. Господи, как всегда Юг ждет грозы… как молит ее… как Бога…
Он встал близко к Светлане. Они давно не целовались. Они почувствовали великую, светлую тягу. Ежик лежал под ними, у их ног, будто их ребенок. Жар утишился, и он уснул. Он спал под дождь, под грозу – самый сладкий сон под шум дождя. Роман обнял Светлану. Как прекрасно целовать любимую – где угодно. У ложа больного. Под потоками ливня. В морских волнах. В жалких постельных подушках. На вольном ветру. Везде.
А гроза гремела, гром раскатывался тяжелыми небесными булыжниками, сотрясая толщу воздуха над потоками и слепящими струями ливня, гроза шла на закате, как благословенье и как возмездье, и страх снова обращался в радость, и то, чего боялись, затаив дыханье, становилось наградой и очищеньем.
Сколько гроз пронеслось над старой Гермонассой! Над степной казачьей Таманью… И эта – не последняя… Светлана оторвала губы от губ Романа.