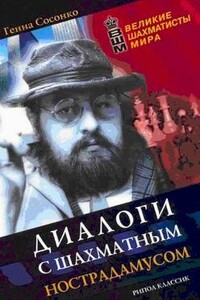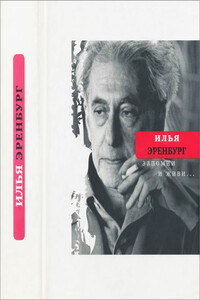Корчной не был диссидентом, но для того чтобы считаться врагом системы, не надо было быть антисоветским человеком, достаточно было просто иметь собственное мнение, а строптивый гроссмейстер порой его и высказывал. Но хотя он и взбрыкивал время от времени, до интервью после матча с Карповым (1974) Корчной, по большому счету, сосуществовал с режимом без серьезных осложнений. И пока он, по крайней мере внешне, придерживался общепринятых норм и правил, власти закрывали глаза на его мелкие грехи, тем более что он входил в элитный отряд советских шахмат.
Думаю иногда: как сложилась бы судьба Корчного, если бы он действительно «сделал несколько лучших ходов» и выиграл матч в 1974 году? Что произошло бы, если бы на него, а не на Карпова надел венок чемпиона мира Макс Эйве весной следующего года, после отказа Фишера от матча? Скорее всего, долго царствовать на троне ему бы не удалось, он уступил бы, наверное, кому-нибудь из молодых – скорее всего, тому же Карпову, а тогда уж ему припомнили бы всё.
Но это только игра воображения, история складывается так, как она складывается, и шахматная история не является исключением. После заявлений ТАСС, шахматной федерации страны и письма советских гроссмейстеров Виктор Корчной прекратил существовать на своей бывшей родине: его имя перестало появляться в советских СМИ, и даже художественный фильм «Гроссмейстер» (1973), где он играл одну из главных ролей, был немедленно снят с проката.
В Римской империи имена впавших в немилость подвергали damnatio memoriae – проклятию памяти, они выскребались со стел и пергаментов. С человеком, не вернувшимся в Советский Союз из зарубежной поездки, поступали точно так же – его, выражаясь языком Оруэлла, «распыляли».
Против английской сборной в 1963 году на Уэмбли за сборную мира играли Яшин, ди Стефано, Эйсебио, Зеелер и другие звезды футбола. Играл и легендарный Ференц Пушкаш, венгерский нападающий, в 1956 году бежавший на Запад. Николай Озеров, комментировавший матч для советского телевидения, ни разу не произнес тогда фамилию Пушкаша, как будто его не было вовсе, а за сборную мира выступали десять игроков. Но это касалось иностранного спортсмена, а здесь речь шла о многократном чемпионе Советского Союза, имя которого было известно каждому: ведь шахматы в «стране победившего социализма» были самой массовой, всенародно любимой игрой, за которой следили миллионы.
Когда Корчной остался на Западе, ему было сорок пять. Каспаров в этом возрасте уже три года как оставил шахматы, а гроссмейстеры сегодняшнего дня говорят о себе как о ветеранах – и действительно, почти все они едут с ярмарки.
Где-то в районе сорока каждый начинает понимать, что не может достигнуть в жизни всего, что многое прошло или недостижимо, что пора прощаться с иллюзиями. Всё это относилось к кому-нибудь, к другим, но не к Виктору Корчному: с одной стороны им двигала колоссальная энергия, подпитываемая безграничным честолюбием, с другой – переполняла ненависть ко всем, кто унизил его и продолжал унижать, не важно – добровольно или вынужденно. Эта гремучая смесь породила невиданный феномен: гроссмейстер на подходе к пятидесяти дважды завоевывал право играть матчи за мировое первенство, и в одном из них едва не добился победы. Именно на этот период (1977–1978 годы) приходится спортивный пик его уникальной карьеры, главную роль в которой сыграла обретенная им свобода.
Но перед тем как встать на тропу войны, лишенный своего, полученного при рождении имени, он должен был выбрать себе другое. Виктор отказался от англоязычного Korchnoi, не взял ни немецкого, ни французского варианта, остановившись на смеси всех трех. И хотя на шахматных и прочих сайтах до сих пор можно встретить самое различное написание, в его паспорте было написано Kortchnoi, и последние сорок лет он провел под этим именем.
Я знал их обоих, и хотя Корчной и Kortchnoi были очень похожи друг на друга, всё же совсем идентичными не были. Иногда они вступали в конфликты, порой ссорились, потом снова мирились и шли по жизни рядом. Одним целым они стали 6 июня 2016 года, даже если надпись Viktor Kortchnoi на могильном камне кладбища маленького швейцарского городка только шахматистам говорит, что здесь лежит человек, родившийся с тем же, но все-таки другим именем.