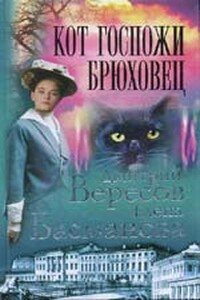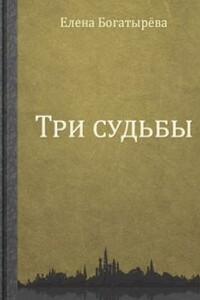– О! Какая феерическая вульгарность! – закатил глаза Нефедов. – Мадам Гнилова!
Гнилова стояла рядом с Яной, и казалось, что она – отражение Яны в кривом зеркале. Гнилова тоже была в зеленом и тоже с кружевами. Но настоящие Янины кружева были потаенными, подшитыми с изнанки, а искусственные нейлоновые кружева Гниловой жестко топорщились снаружи, подшитые к такому же жесткому – из парчи, что ли, – колом стоящему платью. У Гниловой были светлые волосы и голубые глаза, но никому бы не пришло в голову назвать ее блондинкой с голубыми глазами, потому что волосы были тусклы, а глаза – водянисты. Копилочный ротик, почти без губ, делал ее похожей на какую-то белесую глубоководную рыбу. Может, я и зло характеризую Гнилову, но ей было хорошо за сорок, а в таком возрасте человек уже должен отвечать за свое лицо. Как же и чем она жила, если так мертво выглядела в итоге этой жизни? Бедная Гнилова.
– Наверное, я кажусь вам Собакевичем? – сказал Нефедов.
– Я сама себе кажусь Собакевичем, – вполне искренне ответила я, умолчав, однако, о том, что ему как-то не с руки высмеивать своих коммерчески выгодных писак, которых он приводил мне в пример. Не могу себе представить, чтобы старик Семенов вот так издевался за спиной ненавистных ему идеологически выдержанных авторов, которых должен был печатать. Он молчал даже не из страха перед ними, а из стыда за свою беспомощность.
А ведь Семенов не мог печатать то, что хотел. Все понимали, что в некоторых случаях он имел право на ненависть и отвращение, однако он молчал о своей ненависти, раз уж не мог помешать порядку вещей. А ведь и тогда была масса прожженно-циничных редакторов, которые, печатая, презирали и высмеивали, прогибаясь и угодничая при этом.
– А вот наш классик Петров… – ухмыльнулся Нефедов.
«Классика» Петрова я читала, не догадываясь, что это Саша Петров, тот самый, которому я давала рекомендацию в Союз писателей и с которым в общем-то дружила. Талант его никуда не делся и сейчас, он писал вполне приличные детективы, по-прежнему заботясь о том, чтоб сочинения его имели смысл и толк.
– А чем вам не угодил Петров? – спросила я.
– Ленивый совок, который ценит каждое свое слово.
– Ну, конечно, не разводит копеечную историю на тысячу авторских листов, как это у вас теперь принято.
– Так вы считаете, что он действительно умеет писать?
– Да. Умеет. И очень хорошо. А вам этого, я вижу, не надо?
Нефедов промолчал, но не отошел от меня. Почему-то он считал, что должен стоять рядом и представлять мне всех гостей по мере их прибытия.
– Старик Прокофьев со своей мадамой. Владелец заводов-борделей-пароходов. Сибирский плебс много лет знал его под кличкой Стальной.
– Стальной? – невольно вскрикнула я, но тут же пожалела об этом.
– Вам это о чем-то говорит?
– Нет, – ответила я, может быть, чересчур резко.
Но та кличка мне о многом говорила. Я внимательно смотрела на Прокофьева, но не могла сказать с уверенностью, тот ли это Володя Стальной, которого я знала почти тридцать лет тому назад.
Помню, он прислал письмо на двух десятках страниц после выхода первой моей книги. Это был поразительно грамотный и точный литературный разбор. Я, разумеется, ответила, не очень-то разбираясь, что означал обратный адрес Володи Стального.
Переписка продолжались года два, пока он не явился собственной персоной. Я тогда жила в коммуналке, и все соседи, которые хоть краем глаза видели Стального, долго не могли успокоиться, расспрашивая, кто это и зачем приходил. Это при том-то, что ко мне ходили десятками – и муха, и жаба. Мирные обыватели храпели и били копытом при виде этого дерзкого, красивого и даже внешне опасного волчары. Он был у меня пару раз, а потом сказал:
– Дружить домами не будем, потому что у меня никогда не будет дома. Об одном тебя прошу: не верь таким, как я. Не пускай нас в дом. Ты слишком молода и благородна, чтоб понимать, кто мы такие и что мы знаем. Наш опыт тебе не нужен, он запредельный.
И больше он не пришел и не написал ни разу.
Покойный Гриша Сурков, следователь, навел о нем справки и, как всегда назидательно, сказал мне, что быть подружкой этого человека не только неприлично, но и опасно.