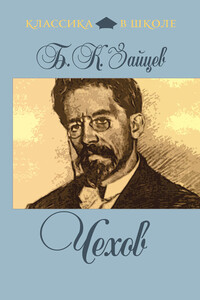Стало тихо. Мы опять очутились в той гостиной и сидели на диване, как влюбленные.
— Все последнее время я страдал. Потому что мы мало любили друг друга. А сегодня в особенности было мне плохо. Я не мог найти себе места, весь день. Почему я попал сюда? Кто меня подтолкнул? Как я счастлив!
— Это любовь, — она нас соединила. Думала ли я попасть сюда и…
— Что?
— Встретить тебя, такого…
— Да, как неожиданно! Как прекрасно!
Больше мы почти и не говорили. Когда очень любишь, то можно, прижавшись щекой к щеке, читать все в любимой душе.
Показалась Маруся. Она шла под руку и, видимо, сама хотела сесть в этой же комнате. Мы встали.
Она всплеснула руками.
— Бог ты мой!
— Вы чего удивляетесь? — Андрей счастливо смеялся. — Почему мы не можем сидеть вместе!
— Да давно не видала, признаюсь! Ай да Наташа.
Она познакомила нас; вчетвером, сияющие, мы болтали.
Потом в киоске пили шампанское и чокались бокалами крест–накрест.
— Свадьба, — закричала Маруся, — кто ж выходит замуж?
С Андреем я чокнулась робко, как с женихом.
— Ну что, — мигнула мне Маруся, — maman, можно мне еще кадриль?
В кадрили мы были визави, а потом вместе уезжали. Бал кончался. Садясь в санки с Андреем, я увидела, как и Маруся садится тоже со своим. Я не выдержала. Как в хмелю, выскочила я из саней, потеряла ботик и в туфельке пробежала по снегу, обняла ее. Я поцеловала ее крепко, восторженно, как целуют гимназистки. Через минуту мы неслись уже в разные стороны. Андрей держал меня крепко, справа бежала за нами луна, сопровождая снова наш бег. Все улицы, люди, город казались мне теперь иными, завороженными любовью.
И прибавить я могу только, что вся эта ночь дома, которую мы провели с Андреем, осталась в моей памяти таким же блистательным сновидением, каким была встреча и вальс.
Да, среди невзгод и скорбей жизнь дарит нам иногда незабываемые мгновения. Верно, когда придет наш конец, мы вспомним о них. И если скажем: девять десятых пропало, но одна сотая вечна — то и за нее мы умрем покойно.
Да будет благословенна любовь.
Памяти милых сердцу
I
Женя не мог сказать, с какого времени начал себя помнить. Были ничтожные или непонятно–прелестные воспоминания, — игра, ласка, запах летнего сада; но это тонуло в тумане детства, легендарного существования, бросающего на целую жизнь свой свет.
И лишь много позже выяснилось для него, что начало жизни проходило в деревне. Навсегда врезался двухэтажный белый дом на взгорье, почти среди села; дорога к церкви, усаженная ракитами; бело–розовая церковь с раздольным погостом, откуда видны луга, с разметавшейся «поповкой», — там жил причт[98]. Наискось через улицу большой сад. Здесь уже слегка таинственно, и некое очарованье представляли его дальние липовые аллеи, выходившие за село, в поле; глухие места, заросшие бурьяном и крапивой; маленький овражек, где валялись лошадиные кости и росли особенные, белые цветы.
А далеко вокруг дома, церкви, сада, села, расположенного на полухолме, — синели кольцом леса. Что было в них, какие жили звери или разбойники, этого детский ум не знал. Но их названия были внушительны, иногда жутки: Брынский лес, Козий бор, Чертолом. Эти леса и поля, шедшие к ним, и речка среди ровных лугов, присылали с ветрами свои благоуханья — девственную крепость, чистоту, силу. Жизнь маленьких людей была овеяна ими. Не оттого ли всё в те дни — во время Эдема[99] — казалось острым и дивным, как божественный напиток?
II
Из окон Жениной детской, во втором этаже, виднелся склон к речке, луга, и далекий заказ на горизонте. Много свету было в этом виде. Как будто окна выходили вообще на Божий мир, лежавший в таком просторе и ясности.
В девять, к концу ужина, дети уставали. И Женя, и сестра Соничка клевали носом, и тут нужно было умение, чтобы отправить их спать. Был и способ для этого. Приходил Гришка, кривоногий человек невзрачного вида, и тихая женщина Дашенька; только им можно было уносить детей. Часто — садились верхом, и полусонные, со сплетающимися детскими мыслями брели на отдых.
Раздеваясь, видели красную зарю, гасшую за заказом, туман над лугами. Далеким, милым дерганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда.