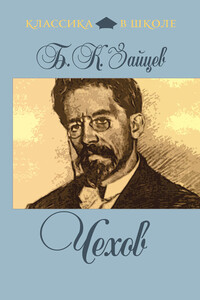Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.
— У меня сегодня дуэль, — сказал он. — Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.
Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно–распутные глаза взглянули испуганно.
— Дуэль? — произнес он слабым голосом. — Но тебя могут убить.
— Безразлично, — тихо и слегка задыхаясь, ответил Никодимов. — А пока ты — мой… едем.
Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.
Маскарад действительно кончался. В нюренбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни в передней накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По уголкам гнездились еще пары, не желавшие расстаться. Варили последний кофе — для пьяниц и тех неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатертей, зашарканных паркетов — всегдашней мишуры и убожества финальных часов.
— Где вы? Куда вы пропали? — кричал Ретизанов, поймав наконец Христофорова. — Черт знает, вы сидите здесь… понятия не имеете… А это ужас… Нет, это черт знает что! Такой негодяй…
Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов, ни с того ни с сего, грубо оскорбил Лбунскую.
— Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если б не помешали. Но теперь — дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.
Христофоров был поражен.
— Как… дуэль? — переспросил он.
— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие… Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов был без секундантов… Все равно, вы должны присутствовать.
— Я, секундантом?
— Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки–с!
Христофоров совсем потерялся. Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепая ссора и, быть может, Никодимов просто нетрезв…
— Как? — закричал Ретизанов. — Оскорбить Елизавету Андреевну — нелепая ссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек, и его бесит любовь, подобная моей. Нелепая ссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему… дудки!
Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли снова вниз, в нюренбергский кабачок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.
Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось — то необычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой, и привело, во фраке и маске, в этот кабачок, — владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова, над спящей Москвой, и ощущал великий жизненный поток, несущий его. «Да, может быть, и прав Рети занов, — думал он. — Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь, зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться».
Ретизанов между тем пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.
— Куба, Ямайка, Гаити и Порторико! — кричал пьяный путешественник. — Иначе не могу, поймите меня, я же не могу… Милые мои, хорошие мои, ну куда же я поеду? — Он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал:
— Куба, Ямайка, Гаити, Порторико! И никаких шариков.
Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.
— Гении ответили, — тихо сказал он, — что я не должен никому позволять… даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот — вовсе не Никодимов, а кто‑то другой, более старший, в его обличье…
Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло — ведь это полубезумный, его надо бы везти домой, и в санаторию. Но тотчас он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.