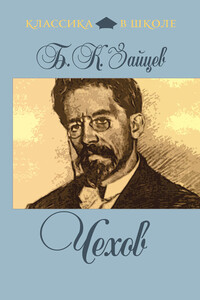— Малютка, да я разве что‑нибудь говорила?
— Нет, ничего дурного не говорили, — г–жа Переверзева очень благородно и с воодушевлением произнесла это, — но все же с недоверием относились к тому, что я предчувствовала. А вы должны сознаться, — я предсказывала верно.
— Крошка, вы говорили, например, что мсье Фомин картежник, преследует девушек…
Г–жа Переверзева погрозила пальцем, грубовато захохотала.
— А что у вас с ним будут шуры–муры?
Тут немного смутилась Антонина Владимировна.
— Я вам повторяю: мы с Петром Иванычем в самых интимных отношениях.
Г–жа Переверзева хохотала не стесняясь.
— Неисправима! Прямо неисправима.
— Малютка, если у вас, правда, такой дар, вы мне скажите лучше о господине Шалдееве. Знаете, это такой оригинал! И он говорит, что у него на ногах козлиные копытца.
Она вспомнила Шалдеева, засмеялась. Г–жа Переверзева, напротив, стала серьезна. Даже отчасти потемнела.
— Это наглец. Бесспорно. Он позволяет себе двусмысленные намеки.
— К нему нельзя же так относиться! Поймите, он художник! И утверждает, что через десять лет я буду гордиться, что дала ему три рубля и что была с ним знакома.
— Трех рублей он вам не вер–не–т!
— Крошка, вы бы послушали его! Я уверена, он бы вас увлек.
— У меня были ухажеры почище, но я, безусловно, всех отстранила. У мужчин одни намерения — овладеть нашим телом. А этот Шалдеев совсем не в моем вкусе. Грубый!
— Интересно знать, будет он знаменитым художником?
— У Метцля служит триста человек. И никто не слыхал его фамилии.
— Ребенок, он еще молод.
— Это будет жалкий мазилка. Живописец вывесок. Я понимаю: Клевер, Маковский… Хороший художник богат, у него свой дом. А этот занимает три рубля. Живописец вывесок!
Антонина Владимировна, видимо, не сочувствовала, но и не стала возражать. О Шалдееве она составила свое мнение, и каким бы оно ни было для другого, принадлежало оно именно ей, и она не собиралась от него отрекаться.
Она и сама хорошенько не понимала, но если бы пригляделась, то увидела бы, что тайный облик козла, гнездившийся в Шалдееве, также волновал и смущал ее.
Денег Шалдеев действительно не отдавал, но иногда заходил к ней: с мсье Фоминым почти не видался. Антонина Владимировна подкармливала его ватрушками, медом, очень вкусными печениями. Ему нравилось, что она смотрит на него, как на особенное существо, слушает внимательно, даже с почтением, малопонятные рассуждения.
Так что, в конце концов, остался недоволен мсье Фомин. Не то чтобы он ревновал. Но почему такое внимание к Шалдееву, ласковый тон?
Впрочем, сам он тоже подлежал укору — слишком часто в отсутствие Антонины Владимировны стал он наведываться к мастерицам и дарил молоденькой Леночке какие‑то конфекты, гребенки, духи. Раз даже, тайком, был с нею в кинематографе, — разумеется, в дальнем квартале. Но за ним было то преимущество, что свои действия он обставлял тайной, и Антонина Владимировна ничего не подозревала.
А тем временем ее тревожило, что ее нежность, раньше направленная на мсье Фомина, точно стала двоиться: все чаще и занятнее вспоминала она о Шалдееве, он начинал ее волновать. «Ах, — думала она, ложась спать, — ну, ведь это как нехорошо и безнравственно! Прямо в высшей степени плохо! Разумеется, Петя очень тихий и деликатный, и это с моей стороны просто игра страстей, или женских прихотей!»
Несколько раз, примеряя шляпки со своими малютками, крошками и содержаночками, Антонина Владимировна подымала вопрос — может ли сердце женщины, принадлежа одному, откликаться и другому? Взгляды малюток разошлись. Некоторые, посмеиваясь, тоже говорили об игре страстей и прихотей; другие с гордостью отвергали; третьи признавали двойную любовь; четвертые считали, что можно втайне любить, но нельзя отдаться; были и такие, что допускали сколько угодно комбинаций; но эти составляли меньшинство, хуже всех платили по счетам и явно жили на содержании. Антонина Владимировна была любезна со всеми — как маэстро своего дела, — но в душе строго осуждала последнюю категорию, ибо расчет нельзя примешивать к чувству. На этом она стояла твердо.
Как бы то ни было, пока мужская честь мсье Фомина не терпела урона; и надо думать, не потерпела бы, но, поддавшись человеческой слабости, он сам занес руку на Антонину Владимировну.