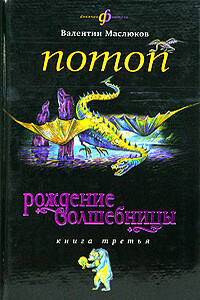Свет погас. Сцена и окрестные закоулки погрузились в полнейшую темноту — все разом затаили дыхание и каждый — оставшись наедине с собой — замер. Не уверенный ни в себе, ни в других.
— Это еще что? — раздался слабый голос во мраке.
Никто не ответил — свет вспыхнул. Весь сразу — всплеском тысячи прожекторов и ламп. Ослепленные, люди озирались с невнятными восклицаниями. Огни замигали, побежали меняющимися всполохами и цветами, стало быстро темнеть, как под затмившей солнце грозовой тучей. И опять все погасло, сжав пространство в ничто — во мрак.
— Скажите ей… пусть прекратит! — раздался истерический вскрик.
— Да что это?! Хватит! — задергались голоса.
Когда прожектора вспыхнули вновь, Ира Астапчик бросилась к авансцене.
— Нина! Нина! — закричала она, обращаясь к слепому окну регулятора в дальнем конце зала.
С болезненной гримасой Генрих сморщился.
— Безвкусица! Наляпать. Лишь бы наляпать! — страдальчески просипел он, жмурясь.
— Прекрати! — взывала Ира. — Нервы! У всех нервы!
— Перестань громыхать! — Генрих стиснул виски.
Но свет погас и вспыхнул, следуя своему надрывному ритму.
— Нинка, блин! — взрычал Куцерь.
Как-то внезапно выскочив — словно из ниоткуда, он ринулся кругом оркестровой ямы. В зале вспрыгнул на кресло и помчался наискось по верхушкам рядов. Кресла затрещали, мгновение-другое казалось, что акробатический бег кончится катастрофой: человек беспомощно мотнется, пытаясь сохранить равновесие, и грохнет на ребра спинок. Но Куцерь, взмахнув раз и другой руками, стал осторожнее, без особого уже молодечества соскочил в проход и, тогда лишь вернув себе живость, в несколько секунд оказался у регулятора.
— Успокойся! — бешено застучал он в стекло. — Успокойся, к чертовой матери, блин!
Со сцены, через весь зал женщина в регуляторе едва различалась. Неясно было шевельнулся ли этот белесый призрак, откликнулся как или остался бесплотным слезным видением.
Куцерь повернул обратно.
— Ревет! — с дурной ухмылкой объявил он, подходя ближе.
Казалось, люди перевели дух, испытывая удовлетворение оттого, что кто-то наконец доведен до слез. Вот теперь — пусть ревет. Это надо. Ровно горел свет.
Виктор не поднялся еще на сцену, когда раздался слабый, на пределе слуха, зуммер, но такова была общая обостренность чувств, что скоро притихли все. Тарасюк прошел к телефону, что тоненько пищал на пульте помрежа, и настала полная уже тишина.
Потянувшись через барьер, Тарасюк поднял трубку.
— Да, это я, Виталий, — подтвердил он и, обернувшись к сцене, предостерегающе вскинул ладонь.
Он выслушал — при общем напряженном внимании — и бережно, как нечто хрупкое, вернул трубку на место.
— Чалый звонил из больницы, — сказал он необыкновенно спокойно. — Вячеслав Владимирович умер. Не приходя в сознание.
Сидя за роялем, Алевтина Васильевна глядела на вестника через плечо. Словно готовилась вернуться к прежнему своему занятию, как только дослушает сообщение. Но, погребая клавиши, опустила черную крышку.
Минута молчания сложилась из десятка бесцветных мгновений, которых не хватило, чтобы подумать о вечном.
Кто-то завздыхал, оглядываясь, кто-то задвигался и прошелся, словно проверяя ощущения новой, уже без Колмогорова, жизни.
Некоторое время спустя Надя Соколова вернулась к подносу, где стояли и турка, и чашка, валялось полотенце. Повернув к свету, она заглянула внутрь турки, затем положила на язык мятную таблетку из пачки и, чуть пососав, выплюнула.
— Не знаю… Уже говорят, отравили. Разговоры идут, я слышала. Есть люди, которые от смерти Колмогорова выиграли, — сказала она и встретила взгляд любителя страшненького.
Неуверенная ухмылка обозначилась на лице любителя страшненького, и все же, мгновение-другое поколебавшись, он перестал улыбаться и отвернулся. Еще несколько человек обратили на Надю внимание, покосился Капупо. Генрих, который в подавленном мутном возбуждении бродил по сцене, бросая то там, то здесь слово, подался было поближе в порыве Надю одернуть… И промолчал. Подкрашенные губки Нади исказились, в хорошеньком личике мелькнуло что-то упрямое и озлобленное. Но продолжать она не решилась.