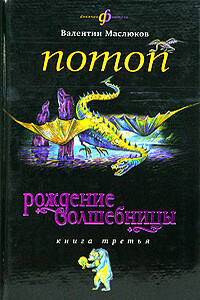— Короче, ребята… — объявил Кацупо, обеими руками загладив назад волосы, — я бы сейчас вмазал.
— Согласен, — кивнул Тарасюк.
Встрепенулись и женщины.
— Тоска, ребята, тоска, — произнес кто-то с выдохом, словно грудь расправляя. Трудно было дышать.
— Кто пойдет? — бесцветно осведомился Виктор Петрович.
Но Кацупо, только что заронивший идею, вспомнил как будто о Наде и переменился.
— Ладно, мы слышали, — враждебно повернулся он к ней, и все насторожились с ощущением чего-то излишнего, о чем не следовало никак говорить. — Атенолол, нитроглицерин, мятные таблетки. Что из этого? Колмогоров забылся… в кофе себе накидал… Трудно поверить. Ну, ладно, накидал. По крайнему варианту — накидал. Что из этого следует?
— А упаковка куда девалась?! Атенолола упаковка, она ведь была здесь! Где она?
— Ага! Значит, кто спрятал, тот как бы… того…
— Ребята, пошарьте у себя по карманам, — сказала вдруг Раиса Бурак с претензией на иронию. Никто не откликнулся даже ухмылкой.
— Не надо, — огрызнулась Надя. — Не надо искать.
— А, мы и так знаем! — догадался Кацупо.
Надя молчала. Слишком красноречиво, вызывающе молчала, чтобы можно было это молчание не понять.
— У нас есть подозрение? — не отставал Кацупо. — Кого мы подозреваем?
Впору было девушку выручать. Похоже, без посторонней помощи она не могла выбраться из того невозможного положения, в которое сама себя и поставила. Но Кацупо не смягчился. Он наблюдал за терзаниями Нади, колеблющейся в противоречивых чувствах, с удовлетворением мальчишки-мучителя, в горсти которого затрепетала крыльями бабочка.
— Кто? Кто же в театре убийца? Кто отравитель? — сказал он отчетливо — для всей болезненно внимающей сцены.
Вот этого не следовало произносить. Слишком Кацупо далеко зашел — общее сочувствие склонилось к девушке. По щекам ее, по лицу проступили некрасивые темные пятна.
— Позволь тебе свойски заметить, Наденька, ты плохо изучила законы детективного жанра. Агата Кристи из тебя неважная, — мягко вмешался Генрих Новосел.
Кстати. Никто еще не смотрел на дело с такой точки зрения.
— Почему? — откликнулась Надя. — Как раз готовый сюжет. Сцена, театр. Красивые мужчины, женщины. Софиты, блестки, пуанты… Двадцать тонн над головою висят. Все наготове. Осталось только с сыщиком определиться — кто будет.
— И мы торопимся занять вакантное место, — сказал Кацупо.
Не весьма доброжелательная, реплика эта означала все ж таки признание игры, и Надя кинула не лишенный благодарности взгляд.
— И я думаю, — продолжала она, возбуждаясь, — если говорить о детективе, это еще не факт, кто у нас жертва…
Аня откликнулась в телефон:
— Да, Вадим!.. Столько всего! Ужас! — Она пошла в сторону, чтобы отчитаться в уединении за прошедший час.
— …В балете… роль жертвы… Конечно, же балерина! — неслась Надя, нервно перебирая в пальцы. — Я никого не обижу, если скажу: балерина — порхающее создание. Вячеслав Владимирович говорил сегодня в своей замечательной без всякого, ой, без всякого преувеличения, в своей замечательной речи, он говорил: красота сублимированная. Да? Сублимированная до такого совершенного… состояния, что… до такого совершенного… совершенства, и она… Эта сильфида — под пожарным занавесом. Хлоп! Двадцать тонн железа и асбеста — заляпанные кровавым сиропом лица. Сильфида расплющена в…
— В писк, — подсказал Виктор Куцерь.
— В писк… в это… в писк, — согласилась Надя с беглой улыбкой и для Виктора. — И все на первых строках книжки.
Надя озиралась — следовало бы сказать, искательно озиралась, если бы только искательность как-то вязалась с лихорадочным строем ее речей.
— Я кое-что понимаю в литературе, — продолжала она спокойнее, — успех обеспечен. Сильфида — хлоп! — и памятник двадцать тонн.
— А дальше? — спросил Генрих, подыгрывая. — Что потом? Ну, раздавили, и что?
— Дальше? — пожала плечами Надя. — Дальше нужно заполнить двести страниц текста, поставив в правильном порядке слова: подлежащее — сказуемое — дополнение. Нанимают студента, кидают ему двести баксов. Потом нанимают редактора, платят восемьсот долларов, он разгребает после студента горы трупов и украшает текст литературными узорами. Про природу вспомнит: «Кленовые листья усыпали землю, как падшие звезды». Ужаснется: «Перерезанное горло захлюпало и заклокотало…» Психологии подпустит на одну-две сигаретных затяжки: «Жестоким презрением Елены словно избитый, он больше не понимал, чего хочет». А потом, растерев окурок, философии разведет строчки на две-три. Помусолит новую сигарету и философию всю со вздохом похерит… Ну вот, и когда все готово, тогда уже нанимают автора.