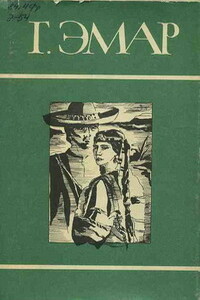Был еще рыцарь Конрад. Об этом, пожалуй, лучше всего, сказал Тудору Василь. Не злой этот парень, ей — богу, не злой, — промолвил Василь не далее, как вчера, когда мимо них, влача белую мантию и сверкающий меч, с непокрытою головой прошествовал золотоволосый, прекрасный ликом и статью северный паладин[45]. Но зла вот так, без злобы, натворит пуще злодея, — продолжал москвитин. Скажут ему: сделай, на благо и для порядка, — и сотворит, что ни велят. И не помыслит, творя зло, чего ради это делает, каковы доподлинно порядок и благо, если они истинны. Боюсь я его, — закончил, поежившись, Бердыш. И Тудор, знавший уже сноровку и силу Бердыша, понял: бояться тот вправе. Ибо у Конрада, кроме меча, были еще красота и молодость, и странная честность, обезоруживающе беззащитная в самой своей беспощадной, не рассуждающей сути. Срубил бы сам Тудор Конрада, с честным сердцем творящего зло? Тудор того не знал.
Были также на счету у сотника Конрадовы наемные ратники, сбредшиеся со всего света спесивые душегубы и тати. Ратники ели, спали, играли в кости, рассказывали о нечистой силе и волшебствах. На дремлющей совести каждого был не один десяток черных дел, но каждой почитал себя рыцарем не хуже Артура — короля. Как ни принуждал их к учениям воинским комендант, как ни неволил к дозорам в конном строю, к упражнениям в стрельбе и рубке, наемники жирели и лень их росла. Но силой, прошедшие в боях полсвета, оставались немалою и теперь. Наемные ратники подымали и бунты — требовали вина, чтоб было оно у них бурдюками и бочками, а не чарками, выдаваемыми к обеду и ужину, домогались ключей от хозяйских погребов. Сам Пьетро не нисходил в те часы с ними говорить, но появлялся Конрад, за которым выходил с длинной пищалью москвитин Василь, и винные бунты в Леричах утихали, словно хороводы чертей, на, которых архангел брызнул бы святою водой.
Где брал, к слову сказать, проклятую горелку сам Бердыш, — того не ведал никто. Наемники твердо верили, что приносил ее работнику самолично нечистый. Было такое — прознал в Леричах Тудор — всего один или два раза, но Василь, упившись, буянил неслыханно, крушил все вокруг оглоблей или кувалдой, и тогда лишь узнавали люди, какая безмерная сила была сокрыта в неказистом тощем теле залетного мужичка. Тогда выходила вперед Аньола, упирала грозно кулаки в крутые бока. И Бердыш, враз утихомирясь, чинно — мирно отправлялся в свою каморку высыпаться.
Как раз накануне прибыло их полку. Не бывало еще в замке Леричи турка — явился теперь и он. Спасенный от утопления Василем и Мазо молодой агарянин пояснил, что служил в войсках султана простым агой и три года тому сбежал, несправедливо приговоренный начальниками к постыдному наказанию. Все знали уже, однако, что осман побывал в Царь — городе во время его осады, видел штурм и падение столицы великого Константина. Сам Тудор Боур успел приметить, что гордой статью и властным взором новый гость замка мало походит на скромного агу. Впечатление мессера Пьетро, по — видимому, было таким же, ибо фрязин приказал поселить неверного в отдельной каморе, рядом с Тудором, и кормить наравне с прочими рыцарями и господами.
Тудор задумчиво взирал на весенние Леричи. Это было уже не только разбойничье логово, но и гнездо большой семьи, удивительной общины. Были тут очаг, и беседа, и трапеза. Живой мурлычащий домовой — лохматая замковая кошка с доверчивой лаской терлась об сапог нашедшего тут приют бродяги — воина, и котята играли среди копий стражи, прислоненных к стене. Запаливаемые вечерами в комнатах огоньки свечей сквозь крепостные бойницы возвещали о том, что здесь родился уют, что мужи ведут у камина мирную беседу, а женщины, внимая мудрым, вышивают или вяжут, либо, отложив работу, молчаливо вплетают свои мысли в канву неспешного общего разговора. Но ночь пройдет, объятия и сны разомкнутся, и будет снова, оставаясь гнездом и домом, разбойничий этот замок радеть о барыше и готовить оружие, приманивая добычу из — за моря и с суши, из дальних и близких мест.
— О чем вы мечтаете, синьор Теодоро, взирая на дым: нашей кухни? — послышался вдруг рядом звонкий девичий голос. — До обеда еще далеко!