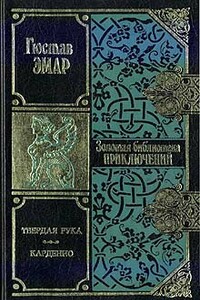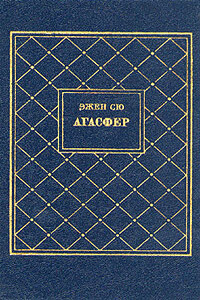— Искусство, однако, всегда поспевает раньше, — продолжал мессер Антонио, будто слышал думы патера, — Раньше мысли и раньше чувства, родителей своих, как раньше курицы — яйцо. Может быть, лишь оно одно и дает покамест ответ на загадки, которые пытаются раскрыть философия и наука — о сущности сущего, природе самой Природы. И более всех всегда приближается к истине, равно для всех неуловимой и желанной.
— Итак, первое место отдано вами искусству, мудрый сын мой, — подвел итоги аббат. — За ним, наверно, следуют науки?
— Бесспорно, — мессер Антонио отвесил полный достоинства поклон. — Но великие поприща человеческих дел, отец мой, — не кувшины, которые хозяйка ставит на стол один за другим, в зависимости от величины. Я не дерзну отдать чувству первенство перед разумом, гению художника — перед гением мыслителя. Оба должны быть вместе, сплетаясь в одной душе, иначе великого не создать ни в чем. Второй соправитель мира есть разум.
— Дар Диавола, — не выдержал наконец аббат. — Откройте библию, заблудший сын мой, и уразумеете, что глаголете!
— Прошу прощения, — возразил венецианец, — в библии этого нет. В миг грехопадения Ева, действительно, сделала то, что внушил ей змей. Но яблоко, яблоко познания — не от диавола же оно там было! Яблоко выросло на райском древе. Разве не бог, о, отец мой, сотворил и рай, и все, что в нем находилось?
— Пусть так, о мудрый сын мой, пусть так, — аббат со смирением сложил воздетые было руки. — Но диавол воспользовался тем плодом, и сделал его таким образом собственным орудием, наложил бесовскую печать. А господень запрет — разве вы забыли о нем, синьор? Разве сказано где—либо в Писании, что запрет этот для детей Адама снят? Зло вышло в мир, господь не восхотел тому препятствовать. Но оно осталось злом!
— Но разум прекрасен! — воскликнул Мастер. — Следовательно, это божий дар!
— Дар господа не может служить погублению человека. Вспомните блаженного Экклезиаста, сын мой! «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познал безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
— Не спорю, — ответил мессер Антонио, едва уловимыми движениями придавая портрету Аньолы уж вовсе новое настроение — жестокое и хищное, хотя и смягченное затаенной жалостью, словно женщина, собравшись погубить жертву, сострадает все—таки ей. — Не спорю, познание мира не всегда веселит нам сердце, принося также скорбь. Но сколько приносит радости!
— За эти годы, сын мой, вы преуспели, верно, в науках, — молвил аббат, побуждая противника к еще к большей откровенности.
— Достиг я малого, хвастать нечем, — возразил Мастер. — Но какое это увлекательное занятие, отец мой, — искать вещей логическую связь, причины встречаемых нами повсюду явлений и перемен! Что может более волновать, чем мысленное путешествие по тайным нитям, соединяющим живое, — былинку и дуб, мотылька и слона. Прокладывать пути, по которым другие люди в лучшие времена пойдут далее и глубже к неведомым тайнам сущего!
«Прямехонько в пасть ада, — подумал отец Руффино, не снимая любезной улыбки с привычного к притворству лица, — Но продолжай, продолжай!»
— Все дальше и глубже, — повторил мессер Антонио, чуть заметными песчаными мазками придавая полонянке в своем медальоне выражение радостного и светлого ожидания. — Чтобы не смотрел на сущее вокруг него человек, подобно скотине в стойле, не понимая, готовый поверить любой вредной сказке. Чтобы знал, как взлетает мотылек с цветка, почему летит, что держит его в воздухе. Чтобы в силах был понять, что движет каждой тварью в ее полете или беге, в ее стремлении сквозь воды или землю, во всем, что составляет жизнь творений вокруг нас. И, может быть, дабы сам сумел однажды, уподобясь мотыльку или птице, взлететь к верхушкам деревьев в лесу, над кровлями города, к вершинам высоких гор.
— Соперничая, то есть, с ангелами господа? — с невинным видом спросил отец Руффино.
— Стремясь быть достойным небесного своего творца, — поправил Мастер, — не зарывать в землю талант, доверенный человеку небесным его владыкой. Ведь это — прямое веление господа, приведенное Писанием, не так ли?