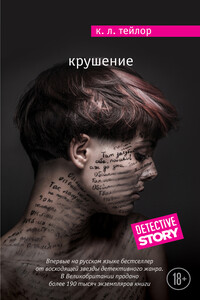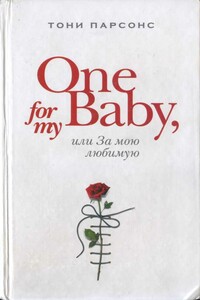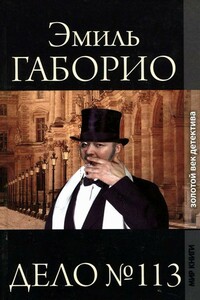Он поднялся. На аэродроме солдаты готовились к погрузке.
– Самые опасные дни – выходные. Как раз в это время мы и прилетаем. В пятницу афганцы молятся, в субботу разрабатывают план, а на следующий день атакуют. Дерьмовые воскресенья, вот как мы это называем. Но вы знаете, люди там вежливые и ведут себя прилично. На базе Кэмп Бастион никто не мусорит. Мне пора, джентльмены.
– Спасибо, что уделили нам время.
Мы с капитаном направились к дверям.
Кинг вышел в холодную октябрьскую ночь, и солдаты повернулись к нему. Некоторые застенчиво улыбались. Меня поразило, как тяжело они нагружены, как молоды и как любят своего командира.
– Почему Джеймс Сатклиф покончил с собой? – спросил старший инспектор.
Капитан болезненно поморщился:
– Как вам сказать… Это произошло много лет назад.
– Но у вас ведь были предположения.
– По той же причине, что все остальные самоубийцы. Из-за слабости.
– Я думал, вы дружили.
– Джеймс был для меня больше, чем просто другом. Намного больше. Я вспоминаю о нем каждый день. И все-таки он был слабым человеком.
Мэллори задумчиво кивнул:
– Простите, что задержал вас, капитан Кинг.
Он пожал нам руки:
– Жаль, что я не сумел вам помочь.
– Позвольте еще один вопрос, – сказал Мэллори.
Кинг ждал.
– Откуда у вас шрамы?
– Это мой братец Бен, – рассмеялся капитан. – Однажды в детстве, когда мы завтракали, он швырнул в меня стакан. Кажется, я сказал ему что-то обидное… Никто не спрашивает, – весело добавил он, ободренный тем, что скоро присоединится к своим солдатам. – Все думают, что шрамы я получил на службе.
Мэллори покачал головой:
– Они слишком старые. Уж я-то в шрамах разбираюсь.
За завтраком Скаут не проронила ни слова.
Я знал: когда-нибудь – и, возможно, очень скоро – моя дочь научится скрывать свои чувства. Но сейчас ей было пять лет, и делать этого она не умела. Я сел напротив, отодвинул коробку хлопьев и заглянул девочке в глаза:
– Что с тобой, ангелочек? Что-то случилось?
Она посмотрела в тарелку с коричневым от шоколада молоком и разбухшими колечками, подняла голову.
– Ты должен сшить мне костюм.
Я в недоумении откинулся на спинку стула.
– Зачем?
– Для пьесы.
– Рождественской?
Скаут покивала:
– Мамы должны сшить всем одежду. – Неуверенное молчание. – И… папы тоже. Так сказала мисс Дэвис.
Если уж мисс Дэвис что-то говорила, это становилось истиной, выжженной огнем на каменных скрижалях, и Моисей нес их с горы в дрожащих руках.
– А как называется пьеса?
– «Сердитая овечка». Это про овцу, которая не хочет посмотреть на маленького Иисуса в яслях. Все идут к нему: и волхвы, и ангелы, и другие овечки. А эта, сердитая, не идет. Ты знаешь такую историю?
– Нет.
– Овечка сначала ворчит. Потом ей грустно, а потом, в конце, стыдно. Очень-очень стыдно. Она понимает, как плохо поступила.
Костюм, думал я. Как делают костюмы? Что для этого нужно?
– А кого ты играешь, Скаут?
– Овечку.
– Вот это да! Тебе дали главную роль?
Она с гордостью кивнула:
– Да, мисс Дэвис выбрала меня.
– Ты просто молодчина.
Однако на лесть Скаут не купилась:
– Мне нужен костюм. И ты должен его сшить.
– Обязательно, – пообещал я, хоть и не представлял, с чего начать.
* * *
В то утро я не пошел на совещание и отправился за пределы нашего алфавитного списка. Мой одинокий «икс пять» летел на север, а навстречу, в город, медленно текла река машин.
Казалось, я еду в такое место, куда, кроме меня, не хочет попасть никто. Такое же чувство возникло в зале крематория.
Я сел на скамью в последнем ряду, ожидая, что скоро помещение заполнит толпа, однако ничего подобного не случилось.
Наконец в комнату забрело несколько потерянных душ. Татуированные лица, щербатые рты, нездоровая бледность. Людей было так мало, что каждый сел на отдельную скамью. И все выбрали места подальше от гроба, что ждал встречи с пламенем.
Гай Филипс, красный не то после матча, не то после ночи возлияний, выглядел здесь точно фермер на банкете анорексиков.
Он сел в заднем ряду, через проход от меня. Я подошел и сел рядом.
– Доброе утро, Свин.
Он резко отодвинулся.
– Эй! А я тебя помню. Ты был на похоронах еще с одним легавым. Вас же за милю видно. Ботинки огромные, члены маленькие.