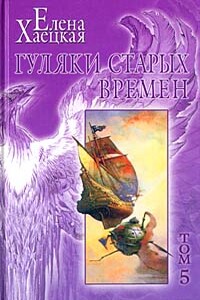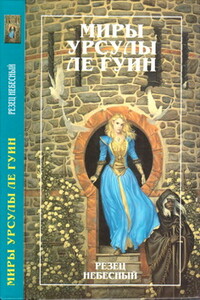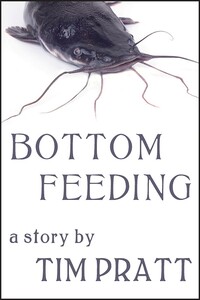– О, это глыба! Это мощь! Это скрытый интеллект! Двести лет непрерывных размышлений – и ни одного пророненного слова! Кто знает, какие процессы происходят…
– Следовательно, он живет в реке, – невозмутимо сказал брат Дубрава, хотя это никак не явствовало из бессвязного описания мощного интеллектуального потенциала Глухонемого Шибабы.
Тем не менее брат Дубрава не ошибся.
– Именно! Именно в реке и именно под водой, – с жаром подхватил Бобо Гостомысл. – Это, знаете ли, когда смотришь сверху… Там в глубине ворочается… гигантское… интроверт, настоящий интроверт.
– А что такое интроверт? – спросила Марион.
– Это когда все внутри, – объяснил Штранден.
– Кишки? – уточнил Гловач.
– Чувства! – сердито сказал философ.
– А как раньше осуществлялась переправа? – осторожно осведомился Зимородок. – Я хочу сказать, до принятия судьбоносного решения?
– Вы будете удивлены! – вскричал барсук. – По спине. Иначе – никак. Водовороты, течения. Сами понимаете…
– Но как вам удается, – продолжал расспросы Зимородок, – как вам удается уговорить Шибабу всплыть и подставить спину переправляющимся? Ведь он, насколько я понял, глухонемой. Каким образом он вас понимает?
– Он воспринимает крики летучих мышей. Через летучих мышей мы передаем ему просьбу о предоставлении переправы. Обычно он снисходителен. Мы стараемся задобрить его. В первое весеннее полнолуние мы бросаем специально для него в реку невинных молодых крольчих.
– И много? – спросила Марион.
– Обычно три дюжины, – ответил Бобо.
– А что он с ними там делает? – не унималась Марион.
С печальной торжественностью Бобо Гостомысл провозгласил:
– До сих пор ни одна из них не вернулась, чтобы поведать об этом…
– Я так и знала, – прошептала Гиацинта, – ни одна…
В ее задумчивых васильковых глазах плясало пламя костра.
Воцарилось молчание, впрочем, недолгое. Пан Борживой был раздираем двумя противоречивыми желаниями: лечь да и всхрапнуть – и подвесить зарвавшуюся пушнину за задние лапы. Зимородок лихорадочно соображал, как бы ловчее уговорить барсука помочь с переправой. Что касается Людвига, то он страшно разозлился. У него вдруг прорезались зубы, которыми он, сам того не заметив, изжевал пояс Марион.
Вольфрам Кандела, судя по всему, рвался завязать с барсуком серьезный разговор об общественном устройстве, необходимости соблюдения законов и об особенностях законодательства, направленного на защиту интересов дичи и ущемление прав охотников. Несколько раз он бессвязно начинал:
– Соблюдение законности в чащобе… Необходимые аппараты принуждения… Любопытны также реальные формы сбора налогов… С добычи? Или шкурами? И кто с кого сдирает? То есть, я хочу сказать, если заяц платит шкурками, ну, скажем, одна пятая с потомства, а сборщик – волк, то это вполне логично… Но в случае, когда сборщиком оказывается, к примеру, белка… проблема целостности шкуры, снятой грызуном…
– Эти вопросы тщательно прорабатывались, – сказал барсук.
– Ну, вы как хотите, братцы, а я от греха подальше на боковую, – объявил, громко зевая, пан Борживой.
Воспользовавшись паузой, ушла спать и Мэгг Морриган. А вот Марион уходить не хотелось. Она прикорнула у костра, то засыпая, то просыпаясь. О чем думала девица Гиацинта, оставалось, как всегда, загадкой. Она продолжала молча смотреть в огонь.
Брат Дубрава и Зимородок слушали разглагольствования Бобо Гостомысла, ожидая удобного момента, чтобы снова завести речь о переправе.
Разговор причудливо вился, затрагивая любую тему, кроме этой. Когда Марион проснулась в очередной раз, то обнаружила, что гостей прибавилось. Кроме барсука, у костра сидела енотовидная собака. Характерные «очки» на морде придавали ей чрезвычайно ученый вид. Это впечатление усугублялось академическими манерами животного.
Говорила преимущественно енотовидная собака. Барсук благосклонно кивал, время от времени вставляя замечания. Остальные, подавленные ученостью гостьи, безмолвно внимали.
– Гипотеза об отсутствии у Шибабы Глухонемого ума признана мною несостоятельной, – профессорским тоном вещала енотовидная собака.
Освальд фон Штранден слушал с неослабевающим вниманием. Проблема была чисто академической, практического интереса не представляла и поэтому имела несомненное отношение к философии счастья. Штранден держался той точки зрения, согласно которой максимальное счастье в первую очередь доставляют человеку абсолютно бесполезные вещи.