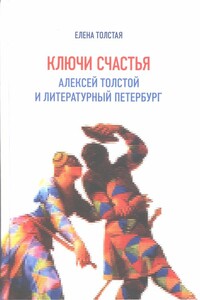Тысячелетняя Яффа кричала на приближающиеся корабли, брызгая огромными валами пены. Высокий лоб ее, иссеченный старыми, серыми, в плевках соли, строениями, нависал над гаванью. Густая, влажная жара обвивала здесь человека тугими пеленами, не давала вдохнуть полной грудью — словно и любить, и ненавидеть в полной мере Яффа не дозволяет.
Набежавшие сарацины на берегу орали весело и алчно, размахивая белыми рукавами и худыми черными руками, и «пилот», их соотечественник, важно ухмылялся, вводя первый из кораблей в порт.
Ги де Лузиньян, пятый сын у отца плодовитого, могучего, мелкопоместного, младший брат свирепых, хитроумных, язвительных братьев, потомков змееногой Мелюзины, чья кровь умеет превращаться в сладкий яд. Ему — неполных двадцать лет. Еще не огрубели руки, еще ни один шрам не пятнает лицо, надежно скрытое от загара смешной крестьянской шляпой.
Для чего вызвал его в Святую Землю старший брат — умный, как Одиссей, Эмерик, коннетабль королевства Иерусалимского? Письмо ничего не объясняло — просто содержало приказ. Приученный доверять и подчиняться, младший не прекословя явился на зов старшего.
И вот — сквозь водяную взвесь смотрит то на берег, кренящийся перед взором, то на собственные руки, вцепившиеся в твердые от соли ванты.
Там, впереди корабля, Святая Земля вставала на дыбы, раскрывая готовое поглотить его чрево.
«Для чего ты позвал меня, брат? — мысленно спрашивал Ги де Лузиньян еще далекого коннетабля. — Неужели тебе понадобилась моя помощь? Но кто я такой, чтобы помогать тебе — тебе, который всегда смеялся над моим ничтожеством?»
Но, уж конечно, Эмерик хорошо знал, что он делает. Может быть, младший братец Ги и ничтожество, зато — единственный из всего лузиньяновского выводка — не медной масти, но золотой.
* * *
Яффа кишела домами. Выстроенные из обожженного кирпича, они иссохли и выглядели так, словно простояли на этом месте несколько тысячелетий. И точно так же выглядели встречаемые на узких улочках люди, несмотря на всю их суетливость и суетность. Все здесь бегало и не двигалось с места, было хрупким и не ломалось, преходящим — и бесконечным. Само время тянулось на этом берегу дольше, чем крохотная чашка кофе, пропущенная сквозь черные зубы ленивого сарацина, хозяина лавки, уплатившего все подобающие налоги.
Молодой человек в сопровождении нескольких спутников бродил по городу, рассматривая его с торопливой жадностью. Змеиная кровь оживала в спящих доселе жилах; ноздри вздрагивали, вбирая непривычные запахи — без разбору, охапками — и раздражаясь от их пряной новизны.
И все оказалось в Яффе не так, как мнилось и обсуждалось за морем. Рослые бароны из Пуату выглядели здесь почти нелепо, если не сказать смехотворно: не так ходили по узким улицам, не так стояли на плоском берегу, лицом к лицу с волнами, которые упрямо отказывались лизать их сапоги, но бросались отвесно и кусали белыми, рассыпающимися в воздухе зубами… Что ни шаг, то цеплялись широкие плечи за стены, что ни вдох, то испарина выступала на лбу, и пот пощипывал уставшие глаза. Несмотря на влажность, мгновенно охватывала жажда, и глазные яблоки начинали болеть, точно их сдавливало невидимыми пальцами.