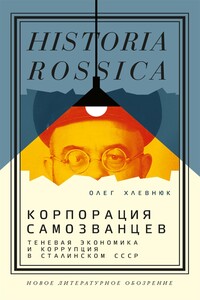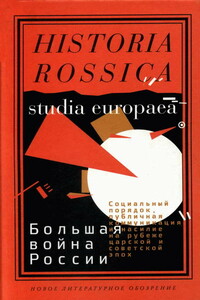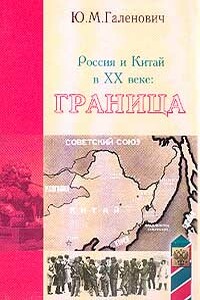Еще более скудным было государственное снабжение непродовольственными товарами. Даже в Москве потребность в чулках, носках, платках удовлетворялась лишь наполовину, потребность в одежде и обуви — в лучшем случае на треть, в нитках — на 10–20 %. Очереди за керосином были хроническими, а спичек выдавали по два коробка в руки. Вот и весь ассортимент. О качестве, конечно, никто даже не заикался — люди хватали то, что дают, давясь в очередях. Рабочие имели преимущества в получении товаров, но они выглядят смехотворными. Так, на 338 человек фабрики Гознак было получено 9 ордеров на женскую и 11 на детскую обувь. Другой пример, взятый из сводок ОГПУ: на одной из шахт Донбасса на 326 рабочих было выдано 15 ордеров на костюмы и обувь. После этого рабочие пытались избить членов комиссии по распределению талонов, «швыряли им в лицо членские книжки ЦРК». На следующий день треть не вышла на работу. Мотивировка — отсутствие одежды. Еще один пример. На 175 рабочих кожзавода (Тифлис) было получено 50 катушек ниток; на 122 пайщика Гостипографии в Баку — 16 ордеров на полушерстяную ткань; на 190 пайщиков Литографии Полиграфтреста в Тифлисе — 29 ордеров на чулки и по 1 катушке ниток.
При скудном государственном снабжении даже для индустриальных рабочих крестьянский рынок превращался в спасительный оазис, где можно было выменять или купить продукты. Для тех же, кто не попал в число «плановых потребителей», рынок был единственной возможностью достать продукты. Но крестьянский рынок, подорванный коллективизацией, переживал тяжелые дни. Привоз сократился, цены кусались. При зарплате рабочих 60–90 руб. в месяц пуд муки на рынке стоил 20–30 руб. (3 руб. в кооперации), килограмм мяса — 3–4 руб. (70 коп. в кооперации), пуд картошки — 9 руб. (в кооперации — 8 коп. за килограмм), литр молока — 1 руб., килограмм сливочного масла — 7 руб. (1–3 руб. в кооперации), десяток яиц — 2 руб. (50 коп. в кооперации)[124].
Высокие рыночные цены не останавливали людей. Как говорилось в спецсводке, горожане ночью за несколько километров от города поджидали крестьянские подводы, буквально вырывали из рук привозимые продукты. У подвод на рынке собирались очереди. По требованию покупателей вводились нормы продажи, чтобы хватило продуктов каждому. Крестьяне отказывались от бумажных денег, но охотно брали серебро или обменивали продукты на сахар, чай, табак. О натурализации рыночной торговли писал Пятаков в уже упоминавшемся письме Сталину:
На Урале, например, за 50–100 гр махорки дают 10 яиц, за ситцевый платок, ценою в 30 коп. — полкило масла. Меновыми единицами для сельскохозяйственной продукции служат на базаре также мыло, нитки, сахар, мануфактура, обувь. В Северном крае, а именно в Вологде, за 100 гр махорки можно получить 400 гр масла, за 50 гр — 5–7 яиц. Мы имеем сообщения о натуральном товарообмене и из Ульяновского округа, из Средней Волги, из Вятки, из Тверского округа и из некоторых округов Сибири. Даже на Московском рынке мы имеем целый ряд сообщений о том, что крестьяне отказываются от продажи продуктов за деньги, продавая их в обмен на мануфактуру и продукты, получаемые по заборным книжкам — сельди, пшено, и т. п.[125]
В условиях товарного голода бурно расцвел черный рынок. Он паразитировал на государственной системе снабжения. Продукты и товары из кооперативов, со складов, ворованные или купленные из-под полы, уходили на рынок, где их продавали втридорога. Частью черного рынка стала и сильно сократившаяся нэпмановская торговля.
Города переживали товарный кризис, а что же в деревне? Продовольственное положение деревни в 1930 году по сравнению с прошлым годом ухудшилось. Насильственная коллективизация вела к сокращению производства, реквизиции истощали крестьянские запасы. По подсчетам экономистов, после заготовок 1929/30 года в деревне оставалось на 6 млн т зерна меньше, чем в прошлом году[126]. Однако большинство крестьян пока сохраняли свои индивидуальные хозяйства. Надел земли и скот позволяли обеспечить семью и даже кое-что продавать на рынке. Деревня пока не страдала от недостатка продовольствия, за исключением бедняков и маломощного середнячества, которые вновь стали жертвами локального голода.