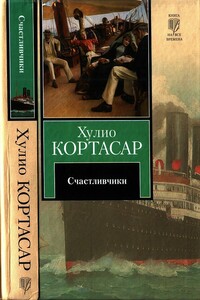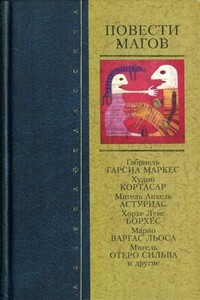Выигрыши - страница 86
— Поскольку здесь очень темно, — заметила Паула, — иногда не знаешь, куда девать руки. Так я вам советую засунуть их в карманы.
— Ну ладно, глупышка, — сказал Лусио, обнимая ее за талию. — Согрей меня, а то я немножко озяб.
— А это уже в стиле американских романов. Так вы завоевали вашу жену?
— Нет, не так, — сказал Лусио, пытаясь поцеловать ее. — Вот так, так. Ну не дури, не понимаешь, что ли…
Паула увернулась от объятий и спрыгнула с канатов.
— Бедная девочка, — сказала она, направляясь к трапу. — Бедняжка, мне становится по-настоящему ее жалко.
Лусио следовал за ней разъяренный, только теперь он заметил, что рядом в свете звезд кружил дон Гало, странный ипогриф, в котором зловеще слились контуры шофера, кресла и самого дона Гало. Паула вздохнула.
— Я знаю, что мне предстоит, — сказала она. — Буду свидетельницей на вашей свадьбе и даже подарю вам вазу для цветов. Я видела подходящую на распродаже в «Дос мундос»…
— Вы рассердились? — спросил Лусио, поспешно переходя на «вы». — Будемте друзьями, Паула… А?
— Иными словами, я никому ничего не должна говорить? Так?
— Наплевать мне на то, что вы скажете. Говоря начистоту, ведь вас больше заботит, что подумает Рауль.
— Рауль? А ну давайте, попробуйте. Если я ничего не скажу Норе, то только потому, что мне так хочется, а вовсе не из боязни. Идите, глотайте свой тодди [77], — добавила она с внезапным раздражением. — Привет Хуану Б. Хусто.
Чудесно, что содержание чернильницы может превратиться в мир как волю и представление или что трение кожного сосочка о пересохший натянутый цилиндр кишки создает в пространстве первый полигон для молниеносного движения, точно так же чудесно и размышление — эти тайные чернила и тонкий ноготь, ударяющий по тугому пергаменту ночи, — оно в конце концов проникает и вникает в самую сущность туманной материи, окружающей пустоту жаждущими краями.
В этот поздний час на носовой палубе бессвязные наблюдения скользят по непрочной поверхности сознания, ищут воплощения и ради этого подкупают слово, которое сделает их конкретными в этом сумбурном сознании, возникают, как осколки фраз, окончания и случаи, противоборствующие среди водоворота, который растет, питаемый надеждой, ужасом и радостью. Поддержанные или разрушенные радиацией чувств, которая исходит скорее от кожи и внутренностей, чем от тонких антенн, подавленных такой низостью, наблюдения далекого пространства, того, что начинается там, где кончается ноготь, слово-ноготь, предмет-ноготь, безжалостно сражаются с соглашательскими каналами и винилитовыми и пластмассовыми штампами ошеломленного и разъяренного сознания, ищут прямого подступа, который стал бы взрывом, криком тревоги или самоубийством, светильным газом, преследуют того, кто преследует их, самого Персио, который стоит, опираясь руками о поручни борта, окутанный звездами, мигренью и небиольским вином. Пресытившись светом, днем, лицами, похожими на его лицо, пережеванными диалогами, подобный шумерскому подростку, застывшему перед страшным таинством ночи планет, упершись лысиной в небосвод, который ежесекундно созидается и разрушается в его сознании, Персио борется со встречным ветром, который не регистрирует даже блестящий анемометр, установленный на капитанском мостике. Рог его приоткрыт, чтобы поймать и испробовать этот ветер, и кто станет утверждать, что не его прерывистое дыхание породило этот ветер, пробегающий по его телу, точно табун загоняемых в корраль оленей. В абсолютном одиночестве на носовой палубе, превращенной неслышным храпом спящих в своих каютах пассажиров в киммерийский мир, в необитаемый район северо-востока земли, Персио распрямляет свою тщедушную фигурку с видом жертвы, словно ростр, выточенный из дерева на драконах Эйрика, словно лемур, окрасивший кровью пену океана. Он слышит тихий звон гитары в снастях судна, гигантский космический ноготь рождает первый звук, почти сразу заглушённый пошлым звуком волн и ветра. Море, проклятое за свою монотонность и бедность, эта огромная желатинообразная зеленая корова, охватывает пароход, который насилует ее, вздымаясь в бесконечном противоборстве железного форштевня и скользкой вульвы, которая дрожит под ударами пены. И тут же над этой грубой кабацкой случкой космическая гитара обрушивает на Персио свой душераздирающий вопль. Не веря своим ушам, закрыв глаза, Персио знает, что нечленораздельные звуки, неверная роскошь громких слов, отягченных, как соколы, королевской добычей, в конце концов найдут отзвук в его самых сокровенных тайниках, в тайниках его сердца, в тайниках его сознания, найдут непереносимый отзвук струн. Крошечный и неуклюжий, он движется, точно мушка, по невообразимо огромной поверхности, а мысль и уста его касаются пасти ночи, космического ногтя, укладывают бледными руками мозаиста голубые, золотистые и зеленые фрагменты жука-скарабея в слишком нежные очертания этого музыкального рисунка, который рождается вокруг. Внезапно возникает слово, круглое и тяжелое существительное, но не сразу кусок колется в ступке, еще не утратив своей структуры, он разрушается с треском улитки, попавшей в огонь, и Персио опускает голову и перестает понимать, уже почти не понимает, чего он не понимал; но его рвение подобно музыке, в пространстве памяти оно поддерживается без усилий, и он снова складывает губы, закрывает глаза и осмеливается произнести новое слово, затем другое, третье, поддерживая их дыханием, которое не могло бы возникнуть в человеческих легких. Этот фрагментарный подвиг вызывает к жизни мгновенные вспышки, которые ослепляют Персио, и перед этим неожиданным препятствием отступает его желание, словно его голову собираются поместить в сосуд из тыквы, полный сколопендр; крепко схватившись за борт, словно его тело находится на грани ужасного веселья и веселого ужаса, и понимая, что сейчас умрет все основанное на условных рефлексах, он старается воскресить и собрать эти призраки, которые, разбившись и потеряв форму, падают на него, он неловко двигает плечами под градом летучих мышей, отрывков из опер, маневрирующих галер, кусков трамваев с рекламой мелочных товаров, слов, которых не понять без контекста. Заурядное, гнилое и бесполезное прошлое, иллюзорное и зыбкое будущее смешиваются в жирный и дурно пахнущий пудинг, который связывает ему язык и оседает горьким налетом на деснах. Он хотел бы раскинуть руки жестом смертника, разрушить одним ударом, одним криком эту жалкую мешанину, которая распадается сама собой в запутанном, и противоречивом финале греко-романской борьбы. Он знает, что в любой момент из его повседневности вырвется вздох, обрызгивая все вокруг слюнявым признанием невозможного, и что свободный от дел служащий скажет: «Уже поздно, в каютах есть свет, простыни полотняные, бар открыт» — и, возможно, добавит самое отвратительное из отречений: «Утро вечера мудренее», и пальцы Персио так впиваются в железный борт, так прилипают к нему, что спасти дермис и эпидермис теперь может только чудо. На краю эти слова повторяются снова и снова, все есть край и может перестать быть им в любой миг — на краю Персио, на краю парохода, на краю настоящего, на краю края: сопротивляться, ссыпаться, предлагать себя для того, чтобы брать, раздваиваться как сознание, быть одновременно и дичью и охотником, удар, уничтожающий всякое сопротивление, свет, освещающий себя, гитара, которая сама себя слушает. Он поник головой, утратив силы и чувствуя, как несчастье, словно теплый суп, большим пятном расползается по лацканам его нового пиджака, яростная битва с самим собой не ослабевает, затихают лишь крики, от которых у него раскалываются виски, стычка продолжается, но теперь она словно ледяной воздух, стекло, и всадники Учелло застыли, подняв смертоносные копья, снег из русского романа лежит на пресс-папье непроходимыми сугробами. Музыка в вышине становится торжественной, напряженная долгая нота постепенно наполняется смыслом, сливается с другой нотой и, подчиняясь общей мелодии, растворяется в крепнущем с каждой минутой аккорде, и тогда возникает новая музыка, гитара распластывается, словно волосок на подушке, и звездные ногти вонзаются в голову Персио и царапают его, предавая сладчайшей смертной пытке. Замкнувшись в себе, в корабле, в ночи — его отчаянная готовность на самом деле чистейшее ожидание, чистейшее приятие, — Персио чувствует, как погружается куда-то или это сама ночь растет вокруг него, растекаясь по нему, отверзая его, как спелый гранат, и предлагая ему же его же плод, его последнюю кровь, единую с морской и небесной кровью, с преградами времени и места. Поэтому он тот, кто поет, веря, что слышит песнь огромной гитары, и кто начинает видеть то, что скрыто от его глаз, там, по другую сторону переборки, за анемометром, за фигурой в фиолетовой тени капитанского мостика. Вот почему он одновременно и внимание, полное самой трепетной надежды, и (это его нисколько не удивляет) часы в баре, которые показывают 23 часа 49 минут, а также (и это ему ничуть не больно) товарный поезд M 4121, который идет из Фонтелы в Фигейра-да-Фоз. Но достаточно вспышки памяти, невольно желавшей объяснить дневную загадку, и достигнутая эксцентричность разлетается на куски, как зеркало под ногами слона, резко падает заснеженное пресс-папье, морские волны скрипят, громоздясь друг на друга, и наконец остается одна корма — дневная загадка, видение этой кормы, какой она предстает перед Персио, который смотрит перед собой, стоя на носовой палубе, и вытирает ужасающе горячую слезу, скользящую по его щеке. Он видит корму, и только корму, это уже не поезда и не проспект Рио-Бранко, не тень коня венгерского крестьянина, не… все сконцентрировалось в этой слезинке, которая жжет ему щеку, скатывается на левую руку, неприметно падает в море. И в его памяти, сотрясаемой могучими ударами, остаются три-четыре образа общности мира: два поезда и тень коня. Он видит корму и оплакивает все вокруг, словно вступая в немыслимое и добровольное созерцание, и плачет, как плачем мы, без слез, пробуждаясь ото сна, после которого у нас остаются лишь ниточки между пальцами, золотые или серебряные, из крови или тумана, — ниточки, спасающие нас от губительного забвения, которое вовсе не забвение, а возврат к повседневности, к «здесь», к «теперь», и в них мы вцепляемся всеми ногтями. Итак, корма. Так это и есть корма? Игра теней с красными фонарями? Да, это корма. Но она не похожа на себя: здесь нет ни кабестанов, ни шканцев, ни марселей, ни экипажа, ни санитарного флажка, ни чаек, парящих над мачтой. Но там корма. То, что видит Персио, это корма — клетки с обезьянами по левому борту, клетки с дикими обезьянами по левому борту, целый зоопарк диких зверей над трюмными люками, львы и львицы, медленно кружащие на огороженной колючей проволокой площадке, на их лоснящихся боках играет полная луна, они сдержанно рычат, они ничуть не больны, не страдают от качки они безразличны к болтовне истеричных бабуинов, к орангутану, который чешет себе зад и разглядывает свои ногти. Среди них свободно разгуливают по палубе цапли, фламинго, ежи и кроты, дикобраз, сурок, королевский хряк и глупые птицы. Мало-помалу начинает проясняться расположение клеток и загонов, кажущийся беспорядок с каждой секундой приобретает эластичные и точные формы, подобные тем, что придают прочность и изящество музыканту Пикассо, которого он писал с Аполлинера, сквозь черный, фиолетовый и ночной цвет просачиваются зеленые и голубые искорки, желтые круги, совершенно черные пятна (ствол, возможно, голова музыканта), по настаивать на этой аналогии — значит лишь вспоминать и, следовательно, ошибаться, ибо из-за борта высовывается убегающая фигура, возможно, это Вант с огромными крыльями, знак судьбы, или, может быть, Тукулъка с клювом коршуна и ушами осла, такой, каким его создала другая фантазия на Могиле Орка, а может, в кормовой надстройке этой ночью пройдет маскарад боцманов и мичманов, словно вылепленных из папье-маше, или тифозная лихорадка разразится бредом капитана Смита, простертого на койке, облитой карболовой кислотой, бормочащего псалмы на английском языке с ньюкаслским акцентом. Мало-помалу Персио все это начинает напоминать некий цирк, где муравьеды, паяцы и утки пляшут на палубе под звездным шатром, и разве только его несовершенному видению кормы можно приписать это быстрое мелькание омерзительных фигур, теней Вольтера или Черветери, смешавшихся с зоопарком, который обычно считают Гамбургским. И когда он еще шире открывает глаза, устремленные в море, которое режет и разделяет надвое нос корабля, видение резко меняет цвет, начинает жечь ему веки. С криком закрывает он лицо, то, что он успел увидеть, беспорядочной грудой рушится у его колен, заставляет его со стоном согнуться, почувствовать себя неизъяснимо счастливым, словно чья-то намыленная рука повесила ему на шею дохлого альбатроса.