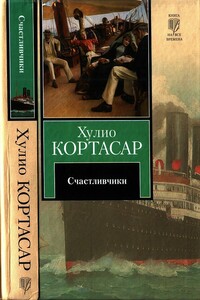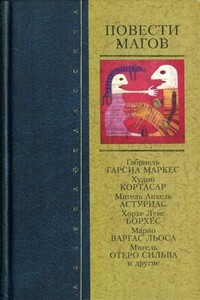— Луис Анхель Фирпо — это типичный Овн, находящийся под влиянием Марса. Цвет его красный, как и должно быть, и металл его — железо. Возможно, Атилио Пресутти и сеньорита Лавалье, на редкость демоническая натура, тоже относятся к этому типу. Однако доминирует монохордность… Я вовсе не жалуюсь, по куда хуже было бы, если бы пароход был набит людьми, находящимися под влиянием Сатурна или Плутона.
— Боюсь, что романы оказывают слишком большое воздействие на вашу жизненную концепцию, — сказал Медрано. — Каждый, кто впервые садится на пароход, полагает, что встретит на борту необыкновенных людей и что с ним обязательно произойдет какое-то чудесное преображение. Я не такой оптимист и, как вы, считаю, что здесь нет ни одного героя, ни одного великомученика, ни даже просто интересного человека.
— Ох уж эти градации. Конечно, они очень важны. До сих пор я смотрел список пассажиров не задумываясь, но теперь буду вынужден изучить его с разных точек зрения, и, возможно, вы окажетесь правы.
— Возможно. Вот и сегодня произошли незначительные события, которые могут иметь далеко идущие последствия. Не доверяйте трагическим жестам, громким декларациям: все это, повторяю, чистая литература.
Он подумал о том, что значил для него жест Клаудии, когда она положила руку на подлокотник кресла и пошевелила пальцами. Великие проблемы, а не выдуманы ли они для публики? Прыжки в абсолютное в стиле Карамазова или Ставрогина… Мелким, почти ничтожным было окружение Жюльена Сореля, а в конечном счете его прыжок оказался фантастичным, под стать мифическому герою. Быть может, Персио старался сказать ему что-то, что ускользало от него. Он взял его под руку, и они медленно зашагали по палубе.
— Вы тоже думаете о корме, не так ли? — спросил он сдержанно.
— Я ее вижу, — сказал Персио еще более сдержанно. — Это невероятная путаница.
— Ах, вы ее видите.
— Да, временами. Чтобы быть точным, видел совсем недавно. Я вижу ее и теряю из виду, и все так смутно… А вот думать о ней, думаю почти непрерывно.
— Мне кажется, вас поражает то, что мы сидим сложа руки. Можете не отвечать, я уверен, что это так. Меня это тоже удивляет, но, по сути, вполне соответствует той незначительности, о которой мы говорили. Мы предприняли несколько попыток, которые поставили нас в смешное положение, и вот тут-то и вступают в игру мелочи. Да, мелочи: любезно поднесенная спичка, рука, опустившаяся на подлокотник кресла, насмешка, брошенная точно перчатка в лицо… Все это, Персио, происходит, а вы живете лицом к звездам и видите только космическое.
— Человек может смотреть на звезды и в то же время видеть кончики своих ресниц, — сказал Персио с обидой. — Как вы думаете, почему я только что сказал вам, что список пассажиров представляет интерес? Из-за Меркурия, из-за серого цвета, из-за почти всеобщей абулии. Если бы меня интересовали другие вещи, я сидел бы у Крафта и правил бы гранки романа Хемингуэя, где всегда происходят значительные события.
— Так или иначе, — сказал Медрано, — я далек от мысли оправдывать наше бездействие. Не думаю, что мы что-то проясним, если проявим настойчивость, разве что прибегнем к величественным жестам, но это, чего доброго, лишь все испортит, и дело завершится еще более смешно, чем в сказке о горе, родившей мышь. Вот в чем суть, Персио, — в смешном. Мы все боимся показаться смешными, и на этом зиждется (я возвращаю вам ваше красивое слово) разница между героем и таким человеком, как я. Смешное всегда мелко. Мысль о том, что над нами могут посмеяться, слишком невыносима, поэтому мы и не на корме.
— Да, я уверен, что только сеньор Порриньо и я не испугались бы оказаться в смешном положении, — сказал Персио. — И не потому, что мы герои. Но остальные… А серый цвет такой стойкий, его так трудно отмыть…
Это был совершенно нелепый разговор, и Медрано подумал, есть ли еще кто-нибудь в баре; ему необходимо было выпить. Персио изъявил желание проводить его, но дверь в бар была уже заперта, и они распрощались немного печально. Доставая ключ от каюты, Медрано думал о сером цвете и о том, что весьма кстати оборвал разговор с Персио, словно ему нужно было опять побыть одному. Рука Клаудии на подлокотнике кресла… И снова это неприятное ощущение под ложечкой, это беспокойство, которое всего несколько часов назад называлось Беттиной, но которое уже не было ни Беттиной, ни Клаудией, ни провалившейся вылазкой в трюм, хотя и было всем этим понемногу и чем-то еще, что не удавалось уловить и распознать, хотя оно было тут, но слишком близко, в нем самом.