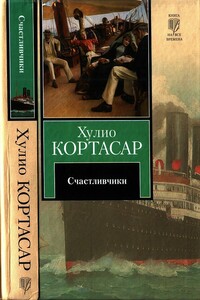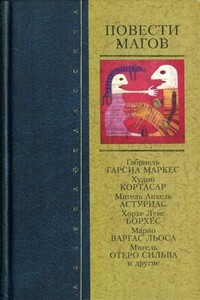XXXI
Сначала он решил подняться в бар выпить виски, уверенный, что без этого ему не обойтись, но уже в коридоре почувствовал очарование ночи под звездным небом, и ему захотелось увидеть море и привести в порядок мысли. Было уже за полночь, когда он облокотился о поручни бакборта, довольный тем, что оказался один на палубе (он не мог видеть Персио, стоявшего за вентилятором). Где-то вдалеке раздался удар рынды, возможно, на корме, а может, и на капитанском мостике. Медрано посмотрел вверх: как всегда, фиолетовый свет, который словно источали сами стекла, неприятно поразил его. Без всякого интереса он спросил себя, а наблюдали ли за капитанским мостиком те, кто провел день на верхней палубе, загорая или купаясь в бассейне. Сейчас его интересовала лишь долгая беседа с Клаудией, которая закончилась удивительно спокойной, тихой нотой, словно Клаудиа и он постепенно погрузились в сон подло спящего Хорхе. Нет, они не заснули, но, возможно, им пошло на пользу то, о чем они говорили. А возможно, и не пошло, по крайней мере для него личные излияния не могли ничего разрешить. Прошлое не стало более ясным, зато настоящее вдруг стало более приятным, более наполненным, подобно островку времени, который осаждает ночь, неизбежность рассвет;., а также послушные воды, привкус радости позавчерашнего и вчерашнего дня, и этого утра, и этого дня, по на острове вместе с ним находились Клаудиа и Хорхе. Не привыкший обуздывать свои мысли, он спросил себя, был ли этот словарь островной нежности порожден чувством и, как это случалось не раз, не озарялись ли его представления светом заинтересованности. Клаудиа была еще красивой, разговаривая с ней, он словно бы делал первый робкий шаг к любви. Он подумал, что ему не помешает и то, что Клаудиа по-прежнему влюблена в Леона Левбаума. Словно реальность Клаудии существовала совершенно в ином плане. Это было странно, это было почти прекрасно.
Они уже знали друг друга намного лучше, чем несколько часов назад. Медрано не помнил другого случая в своей жизни, когда бы отношения возникали так легко и естественно, почти как необходимость. Он улыбнулся, отчетливо представив себе — он чувствовал это, он был в этом абсолютно уверен, — как они оба, сойдя с обычной ступени и взявшись за руки, спустятся к иному уровню, где слова становятся предметами, отягчаются чувством или запретом, значимостью или упреком. Это случилось именно в тот момент, когда он — так недавно, совсем недавно — сказал ей: «Мать Хорхе, маленького львенка», и она поняла, что это не было дешевым обыгрыванием имени ее мужа, а что Медрано словно положил ей на раскрытые ладони хлеб, цветы или ключ. Дружба зарождалась на прочной основе различий и разногласий, ибо Клаудиа только что произнесла суровые слова, почти отказывая ему в праве следовать по давно намеченному жизненному пути. И в то же время с каким-то тайным стыдом добавила: «Кто я такая, чтобы порицать тривиальность, когда моя собственная жизнь…» И оба замолчали, смотря на Хорхе, который сладко спал, повернувшись к ним лицом, он был прекрасен в слабом свете каюты, изредка вздыхал и что-то бормотал во сне. Маленькая фигурка Персио неожиданно возникла перед ним, но ему не было неприятно увидеть его в этот час и в этом месте.
— Я сделал одно весьма любопытное наблюдение, — сказал Персио, облокачиваясь на поручни рядом с Медрано. — Просматривая список пассажиров, я пришел к поразительным выводам.
— Я с удовольствием ознакомился бы с ними, друг Персио.
— Они не слишком ясные, но главный из них зиждется (кстати говоря, прекрасное слово, полное пластического смысла) на том, что почти все мы находимся под влиянием Меркурия. Да, серый цвет — это цвет списка, назидательное единообразие, где насилие белого и уничтожение черного сливаются в жемчужно-сером, чтобы напомнить лишь об одном из чудеснейших оттенков этого цвета.
— Если я правильно вас понял, вы полагаете, что среди нас нет людей необычных, людей незаурядных.
— Более или менее так.
— Но этот пароход, Персио, всего лишь одно из звеньев нашей жизни. Незаурядность отпускается в мизерных процентах, если не считать героев литературных творений, которые потому и называются литературными. Я дважды пересекал океан. И вы думаете, мне посчастливилось хоть раз путешествовать с необыкновенными людьми? Ах да, однажды в поезде, следующем в Хунин, я завтракал за одним столиком с Луисом Анхелем Фирпо, он уже был стар и тучен, правда, по-прежнему обаятелен.