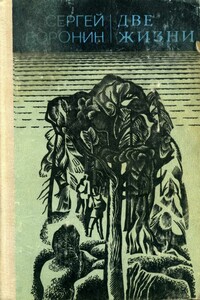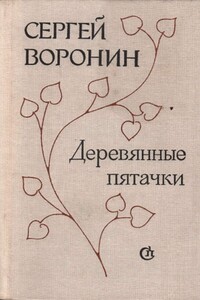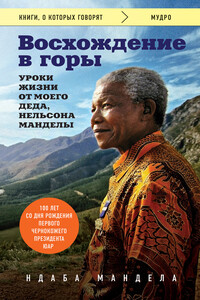«Муки творчества» — это выражение довольно часто встречается в признаниях некоторых литераторов, причем порой чувствуется, что это им нравится — мучиться. Я же должен признаться, что никогда не испытывал этих «мук» за исключением самого раннего периода, о котором только что сказал. Да и то эти «муки» шли от абсолютной незрелости, когда я искал там, где не было положено. Мне или писалось или не писалось. Если писалось, то я писал наотмашь, если же не писалось, то я в скверном настроении срывал злость на ближних, порой отчаивался, думая, что все уже кончено и мне больше строки не написать. Но через день-два садился за стол и писал легко, будто кто за меня эти дни хорошо поработал и мне только оставалось перенести на чистый лист бумаги. Так что никаких «мук творчества» у меня никогда не было. Так же, как не было и поиска единственного нужного слова для выражения мысли или психологического состояния героя. Оно — нужное слово, приходило ко мне сразу и вставало прочно. Все должно писаться естественно, без усилий. Всякие же потуги, насилие над своей натурой приведут только к оригинальничанью. Как думаешь, так надо и писать. И если уж есть зерно, так есть, а нет, так и не будет.
Нашей группе было поручено произвести изыскания подъездных путей к одной из шахт. Когда работы были закончены, большая часть группы была отозвана на другие объекты, меньшая же, в которую входили и мы с Марией, которая к тому времени приехала вместе с моей матерью, оставалась в Губахе для изысканий и проектирования мостового перехода через реку Косьву в районе поселка. Руководителем группы был поставлен И. Г. Зархи, брат известного кинорежиссера. К тому времени у меня уже собралось несколько рассказов, и я попросил его прочесть «Звенят ручьи», «Таежник», «Холостой выстрел» и роман «Изыскатели». Понудила меня к этому полная изоляция от литературной среды. Надо было разрядить себя, поэтому я и сунулся к Зархи. К тому же не раз видал его с книгой в руках.
Долго он читал мои рассказы и роман, так долго, что я истомился. Наконец прочитал. Приговор его был убийственным.
— Зачем вы не за свое дело беретесь? У вас же нет таланта, — он стоял передо мной маленький, глядел с пренебрежительным прищуром.
До сих пор не могу понять, что заставило его быть таким жестоким. Если бы даже допустить, что и на самом деле у меня не было таланта, то разве так надо было об этом говорить? Или кому мешал бы я, или приносил вред, сидя по вечерам и выходным дням за листом чистой бумаги и сочиняя, пусть и бездарные, рассказы. Зачем уж так наповал-то?
Не сразу я оправился от такого удара. Окончательно помог прийти в себя добрый случай. Был я в командировке в Перми и там повстречал Сергея Дмитриевича Спасского. И вот я у него. Я рассказываю о себе, Спасский — о себе. Оказывается, он был вывезен из Ленинграда в дистрофическом состоянии, но вот оправился и теперь здесь, в Перьми, работает в издательстве. Говорит о том, что выходит альманах «Прикамье» и чтобы я подослал ему свои рассказы.
Я подослал и вскоре же получил от него ответ. Все рассказы ему понравились, один из них, «Таежник», принят в альманах. Радости моей не было границ. После чего начались муки ожидания. Ведь с тех самых пор, когда были напечатаны мои стихи в 1935 году и до встречи со Спасским, а было это в 1943 году, я не печатался.
Как я ликовал в коридоре издательства, держа в руке книжку : «Прикамье». А ведь уже не маленький был — тридцать лет. Но в моем ликовании было заложено многое — и естественная радость, и торжество победителя, то есть добился все же! И, конечно же, немалая доля удовлетворения, что Зархи оказался не прав. И даже не потому, что он не прав, черт с ним! А потому что я не бездарь, могу, могу!
Казалось бы, все в порядке с «Таежником», но нет, — только кончилась война, как прокатился критический гул по альманаху «Прикамье», в том числе и по моему рассказу. Московская критикесса Усиевич усмотрела в нем, прежде всего, неактуальность, — ну, это верно — была война, и при чем тут «Таежник» по своей теме? И еще обвинила в каком-то «черноземье», и еще в чем-то малопонятном.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)