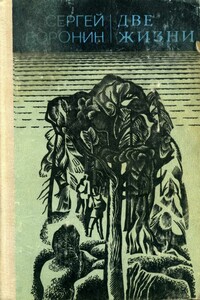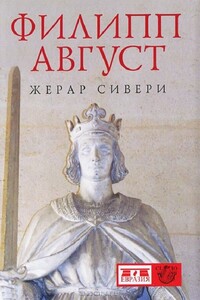В течение нескольких дней меня трепала малярия. И все это время, свободное от трясучки и изнеможения, потратил на рассказ «Большие чувства». Это рассказ об искалеченном солдате, который никак не может доказать, что он не тот, за кого его принимают. Свои таежные рассказы я отдал в литературную группу, которой руководил при Союзе писателей Леонид Ильич Борисов, а «Большие чувства» решил прочесть.
В литгруппе было человек двадцать. Леонид Ильич представил меня и стал хвалить таежные рассказы. И кто знает, может, надо бы прочесть один из них, чтобы, как говорится, «закрепить успех»; но я надумал читать «Большие чувства» — он был свежий, еще «горячий», — и стал читать. Слушали внимательно. Да, он был напряженный, этот рассказ, выстроенный по тому драматургическому закону, когда читатели знают, в чем дело, а действующие лица не ведают. И я ожидал хвалебных речей. Но только стоило мне замолчать, как тут же взорвался Борисов. Худенький, темпераментный, с высоким сильным голосом, легко воспламеняющийся, до последней клеточки преданный литературе, он с болью и гневом говорил о моем рассказе. О том, что не может любящая женщина не узнать своего любимого, как бы даже он ни был покалечен.
— Фальшь! Фальшь! — кричал он. — Нельзя извращать психологическую правду! Вы совершили насилие над человеческой душой! Талант дается не для литературных упражнений и авторского произвола.
Такого еще никогда мне не выпадало. Но как он ни ругал, главного не зачеркнул. И ругая, он оговаривался, — не принимает замысел рассказа, содержание его, но написан неплохо, сильно, и тут снова взрывался: «Тем хуже! Столько затрачено сил, да как вы...» и т. д. и т. д.
В общем же рассказ произвел действие. Ко мне подошел рыжеватый паренек, приветливо улыбнулся и запросто сказал:
— Хочешь в «Смене» работать?
Я молчал. Конечно, хочу, но я еще и не сообразил, и не думал о таком повороте в своей судьбе.
— Ну, чего молчишь?
— Так ведь я никогда не работал в газете.
— Писать умеешь, значит, сможешь...
Потом мы с ним шли, и он читал мне стихи. Были они о природе, ясные, светлые, с настроением. Оказывается, он уже вовсю печатается и в «Смене», и в «Звезде», и в «Ленинграде». Звали его Лев.
Договорились так, что я вначале попробую что-нибудь написать в газету, чтобы легче было разговаривать с ответственным редактором. И написал небольшую корреспонденцию — «Во все уголки родины». Ее напечатали.
После этого можно было уже говорить с ответственным редактором С. Я. Сазоновым. Он внимательно выслушал меня, посмотрел заметку, послушал хвалебные отзывы обо мне Льва Егорова и, тонко улыбнувшись, видимо поняв, что некоторый перебор положительных эпитетов идет за счет нашей дружбы, направил меня в отдел физкультуры и спорта к Сергею Андронову, человеку медлительному, рыхлому, с нависшими плечами. Левку он не стал слушать, мне же дал задание: написать корреспонденцию о том, как отразилось на физическом воспитании школьников увеличение числа уроков по физкультуре, если вместо ста часов стало сто десять.
Что и говорить, задание сложное. Ну как могла прибавка десяти часов в течение года отразиться на ловкости и силе школьников? Каким прибором это измерить?
Я сделал три корреспонденции, и все три, одна за другой, были отвергнуты Андроновым. К этому времени я уже не работал в «Желдорпроекте», уволился. И тем тяжелее стало мое положение. С уходом с работы я лишился карточек.
— Мда, — не глядя на меня, промычал Андронов, — боюсь, что ничего у нас с вами не получится.
— Но это очень трудное задание. Дайте что-нибудь еще, вот мои рассказы, роман... Посмотрите.
— Мне не это от вас нужно.
— Но дайте еще одно задание...
— Нет. Достаточно. — И он углубился в чтение какой-то бумаги, дав понять, что мне больше у него делать нечего.
Я вышел в коридор. Стоял у окна подавленный. Идти к ответственному редактору не имело смысла, — испытание не выдержано, о чем еще говорить. Можно, конечно, вернуться в «Желдорпроект», но как не хотелось... Уже какой-то новой жизнью повеяло на меня за те дни, пока я ходил в школы, беседовал с физруками, спортсменами-школьниками... И как назло, Льва Егорова нет.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)