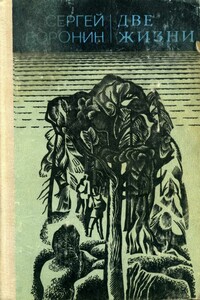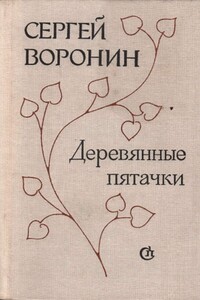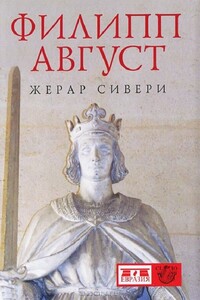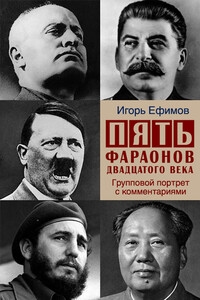— Вы должны не огорчаться, а радоваться, — смеясь, сказал Спасский. Мы встретились в Доме писателей имени Маяковского. — Редко кому выпадает такая удача, чтобы первое же произведение было замечено столичным критиком.
От Губахи только частичка уральского пейзажа и кое-какие детали дома и двора, где была наша контора, вошли в рассказ «Иван Куличек» да еще приговорка одного из рабочих: «ешьте — заешьте».
Как добрый знак того, что наши дела на фронтах бесповоротно пошли на Победу, пришел приказ грузиться в товарный вагон и ехать на Кавказ завершать изыскания железной дороги к Дашкесанскому руднику.
* * *
Поселились мы в Кирыхлах, азербайджанском ауле, в каменном сарае. В нашем российском понимании это и был бы сарай, но у местных это был дом. В таких же и они жили, сложенных из «Дикаря», с небольшим окном на восток, плоской крышей, нишей для очага в задней стене и дверью. Пол был земляной.
Сразу за домом начиналась большая долина, доходившая до подножия гор Кавказа. Величественный белоголовый хребет хорошо был виден в ясную погоду. (Это на него, прощаясь, глядела Тика из рассказа «В метро». )
Знойная долина со стрекочущими кузнечиками, с «богомольцами», сарай, аул с круглыми печами в земле для выпечки чуреков, кировабадский базар, — все это вошло в рассказ «Убийство», написанный много лет спустя.
В свободное от работы время сидел в сарае за маленьким столиком у окна и писал при свете тусклой керосиновой лампы.
А работать приходилось много. Занимался нивелировкой, снимал поперечники. По вечерам вычерчивал профили. Днем стояла сорокаградусная жара. Особенно было тяжело работать на косогорах, когда солнце пекло впритык. Единственное спасенье — купанье в Кушкара-чай. И я бросался в ледяную воду. И то ли от этого, то ли были малярийные комары, но я заболел малярией. Она меня дотрепала до того, что наш экспедиционный фельдшер Ивановский велел немедленно убираться в Ленинград. В начале сорок пятого года это было не так уж и трудно. Многие возвращались домой.
И вот мы в Ленинграде. И радостно и горько. У Марии умер в блокаду отец — Григорий Егорович Егоров, сильный человек, мудро понимавший жизнь. У старшей сестры Варвары погиб муж в Синявинских болотах. У средней пропал без вести. Он был изыскателем, старший инженер-геолог Александр Светлов. Ушел добровольцем. Умерла моя бабушка Матрена. Тетя Настя рассказывала, как она отдавала свой последний кусок хлеба, только чтобы выжил, дяде Коле, сыну. И он выжил. А она умерла. Даже похоронить не было сил. Вынесли на улицу и оставили. Похоронный отряд подобрал ее, и где она нашла свой последний приют, никто не знает. Умерли в одночасье дядя Митя, брат отца, и тетя Нюша. Их два сына погибли в войну. Погиб муж старшей их дочери. Многих знакомых, родственников не было в живых.
В нашей комнате во время блокады жили военные, но чудо! — только так я и могу это определить, ни они, ни соседка Марья Павловна (это о ней в рассказе «Старое кресло») не сожгли мои изыскательские дневники. Они как были, так и лежали в клеенчатой сумке под буфетом. Я достал их, и еще не зная, как они пригодятся мне для романа «Две жизни», просматривал записи восьмилетней давности, но такими казавшимися уже далекими.
Стоял и глядел в окно на двор. Он был большой, и посредине росли деревья. На одном из них зеленела срезанная осколком большая ветвь. Пройдет всего немного, и она тоже войдет в рассказ «Старое кресло».
По приезде в Ленинград словно черта пролегла в моей творческой жизни. Этому, бесспорно, способствовал общий духовный подъем, — самое страшное, что может сделать человек для человека, осталось позади, и впереди ожидало время светлых надежд и веры в хорошее будущее.
В День Победы прошли маршем от Нарвских ворот через Театральную площадь солдаты-победители. Они шли нескончаемой колонной, запыленные, усталые, под восторженные крики женщин, стариков и детей, бросавших им цветы. Меня поразила в их лицах какая-то отрешенность, словно бы они и не замечали плотных людских шеренг, и продолжали свой бесконечный марш войны, с наклоном головы, сосредоточенно устремив взгляд вперед. Я не был на войне. И по-настоящему даже не мог себе представить ада, который перенесли эти люди. Когда рядом с ними погибали их товарищи, истекали кровью, когда они сами каждую минуту готовы были погибнуть, спасая Родину. И вот они остались живы, возвращаются с фронтов войны, бессмертные солдаты моего народа. А сколько не вернулось? Сколько полегло и на своей и на чужой земле? И сколько среди них было будущих Менделеевых и Ломоносовых, Толстых и Есениных, Серовых и Чайковских? Сколько не вернулось отцов, сыновей и дочерей? Сколько погибло семей? Разрушено очагов? И какой ценой оплатить все это? Какой радостью заменить беду? Что надо сделать, чтобы наполнить счастьем сердца своего народа? Каким быть мне? В каких словах все это выразить? Ничего не могу я сделать, кроме одного — сострадать своему народу. Быть верным ему. И любить его и гордиться им. И может, когда-нибудь написать хотя бы немногое, достойное его.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)