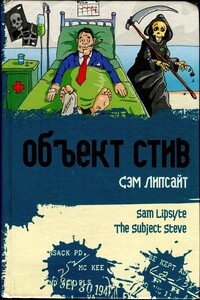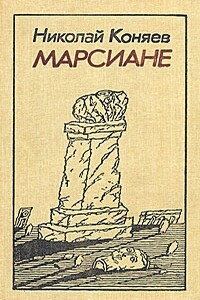Мария Андреевна, повязавшись теплым платком, отправилась в путь пораньше. Дороги она не боялась — выросла тут, с детства и грязь калитвянскую месила, и по веселому зеленому лугу бегала, и в Дону купалась. Дойдет теперь и до Новой Мельницы, не развалится. Летом бы оно сподручнее — до хутора напрямки километров, может, пять, но сейчас по лугу не пройти — снег размок, туман… Придется идти через мост, что у Новой Калитвы, потом вдоль бугров на Мельницу эту… Ишь, убрал бандитский свой штаб из Старой Калитвы, подальше от людских глаз. Таких делов наворотили, что хоть сквозь землю проваливайся: продотрядовцев побили, Родионова Степана за непослушание изрубили, в какой-то Меловатке, Гончаров хвастался, мальцов с матерью побили из обрезов, их отца, председателя волисполкома, жизни лишили, с ним парня какого-то, комсомольца… И пограбили там — на стольких подводах добра привезли. Там же, Марко́ Гончаров языком молол, он себе девку приглядел, Лидку эту, а Иван себе ее взял. Ох, Иван-Иван! Да что ж тебе, непутевому, свет-то застило? Руки людской кровью измарал, колесниковский род на веки вечные опозорил. Как теперь меньшим сынам, Павлу да Григорию, в глаза смотреть? Да и другим людям? Чует ее старое сердце, что кровавая эта игра ненадолго, что страшный будет для Ивана конец… Господи, вразуми ты его, беспутного, направь на истинную дорогу! Что ж ты: видишь все с небушка да не подскажешь?! Явился бы в каком-нибудь образе для сына и подсказал ему, нашептал бы ему в оглохшее ухо, в бесстыжие зенки глянул бы. Проклятье его ждет народное, кара небесная. Давеча являлся от тебя посланник, господи, сказывал с горестью: смерть Ивану, если не бросит кровавое свое дело, не одумается…
Мария Андреевна, мелко крестясь, стояла сейчас лицом к Новокалитвянской зеленой церкви, купола которой были едва видны из-за тумана, плакала. Сердце ее изболелось за этот проклятый месяц, сил вовсе ни на что не стало. Кто бы мог подумать, что Иван так озлобится против Советской власти, из Красной Армии убежит, с бандитами одной веревочкой повяжется?
Отдохнув и немного успокоившись, Мария Андреевна пошла дальше. На Новую Мельницу она пришла к полудню. Вдоль меловых бугров идти было полегче, не то что по лугу — дорога тут посуше. Черная Калитва, справа, лежала подо льдом и снегом, но у самого мостка дымилась глубокая и широкая полынья, билось у ее края вздрагивающее на ветру гусиное перо.
Марию Андреевну, еще за мостком, встретил конный разъезд: Демьян Маншин и кто-то второй, незнакомый ей, на приземистой пузатой лошади. Демьян поздоровался первым, спросил, по какому, мол, она делу — тут штаб дивизии, запретная зона. Мария Андреевна с сердцем ответила Демьяну, что плевать ей на штаб, пришла она до Ивана. Маншин растерянно переглянулся со своим напарником — видно, у них был на этот счет какой-то приказ, никого не подпускать к Новой Мельнице, но мать атамана под приказ этот, наверное, не попадала… «Да нехай идет, Демьян!» — махнул рукой тот, на пузатой лошади, и Маншин тогда тоже махнул — иди.
Сразу при входе в хутор на глаза Марии Андреевне попался дед Зуда, Сетряков, — тащил откуда-то охапку соломы. Она знала, что старый этот придурок напросился в банду, его определили истопником при штабе, значит, он должен знать, в каком доме Иван.
— Андре-евна-а… — пропел удивленно Сетряков, сбивая на затылок рваный свой, наползающий на глаза треух. — Какими божьими судьбами?
— Божьими, божьими, — сурово ответила она. — Где… мой-то?
Сетряков, бросив солому, повел ее к дому с голубыми ставнями. Всюду во дворах видела она людей с оружием, лошадей под навесами или просто так; из одного двора торчало круглое рыло орудия.
«От антихрист, от антихрист!» — скорбно качала она головой.
— Что у него — девка тут, что ли? — спросила Мария Андреевна Сетрякова. — Или брешут в Калитве?
— Может, и не брешут, — осторожно промямлил дед Зуда. — Ды только хто их, молодых, разберет? Я, Андревна, теперь не в самом, значит, штабе, при Иване, а в при-строе, во дворе, и за лытки… хи-хи… нико́го не держав.
— Дурак, — ровно сказала Мария Андреевна. — Не знаешь — так и скажи.