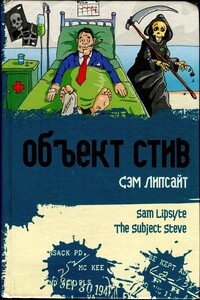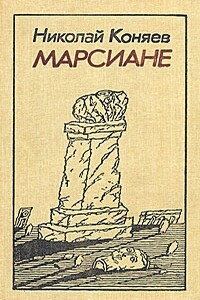Колесников увидел мать из окна, вышел на крыльцо — в гимнастерке, без ремня, с непокрытой головой, с невыспавшимися пьяными глазами. Смотрел на нее с каменным неподвижным лицом, ежился от холодных капель, срывающихся на шею с навеса крыльца. Вышел на крыльцо и Марко́ Гончаров — у того морда вовсе распухла от беспрестанной, видно, гульбы.
— Здравствуй, Иван, — сухо сказала Мария Андреевна и оперлась на палку, тяжело дыша: нет, не для ее ног эта дорога.
— Добрый день, мамо, — ответил Колесников безрадостно и стал спускаться с крыльца. — До мэнэ, чи шо?
— До тэбэ, до тэбэ, — потрясла она утвердительно головой и пристально посмотрела сыну в лицо. Колесников отвернулся.
Мария Андреевна вошла в чужой дом, где жил Иван и где размещался его штаб, заметив при этом, что Марко́ Гончаров настороженно и вопросительно глянул на Ивана, а тот недоуменно пожал плечами, — сам не понимаю, чего явилась. Выскочили на голоса у порога Кондрат Опрышко с Филькой Струговым, осклабились почтительно, Филька хотел даже принять у матери атамана дорожный посох, но Мария Андреевна не дала, отвела руку. В горнице были еще какие-то люди, Мария Андреевна узнала Сашку Конотопцева, были тут же и Гришка Назаров, Иван Нутряков… В горнице был накрыт большой стол, гудели голоса, табачный дым стоял коромыслом. Мелькнуло девичье лицо, и Мария Андреевна с упавшим сердцем сказала себе: «Она!»
Колесников прикрыл дверь в горницу, ввел мать в другую комнату, где стояла широкая двуспальная кровать с блестящими шарами-шишками и с высокими, горкой уложенными подушками; над кроватью, в деревянных рамках, висели фотографии чужих, незнакомых ей людей.
Колесников молча ждал.
— Ну? — наконец не выдержал, грубо спросил он. — Чего пришла?
Она не отвечала, смотрела на него — какое-то изменившееся, жестокое лицо, поседевшие виски, нечесаная голова…
— Что ж ты делаешь, Иван? — с отчаянием в голосе спросила Мария Андреевна, и из глаз ее сами собою покатились слезы.
— Что!.. — дернул он плечом и криво усмехнулся. — С Советами воюю, ты знаешь.
— За кого ж ты воюешь, Иван?
— За кого… За народную власть. Без коммунистов, поняла? Красной Армии скоро конец, долго не протянет. Вон, у Антонова какая сила!..
Мария Андреевна покачала головой.
— Не для того люди царя сбрасывали, Иван. Старую власть назад никто не допустит.
— А царь нам теперь ни к чему, — хохотнул Колесников. — Свои командиры будут. Глядишь, потом и про меня вспомнят.
— Разобьют вашу шайку, Иван, не надейся.
— Не шайку, мамо! — строго и обиженно сказал Колесников. — У нас такие ж части, как и в Красной Армии. И лупим мы их как цуциков!
— Да слыхала я, слыхала. — Мария Андреевна слабо махнула рукой. — В Криничной сонных красноармейцев порезали, в Терновке…
— Это военная хитрость, — хмыкнул Колесников. — Тут уж кто кого. Смертная игра.
— Ото ж и оно, что игра. — Мария Андреевна горько вздохнула. — Втянули тебя как Ивашку-дурачка, а ты и рад — командиром поставили.
Колесников вскочил.
— Никто меня не втягивал, мамо! И про Ивашку ты брось… Они у нас все поотымали. Батько да дед горб гнули-гнули, а где все наше добро? Где? Где кони, коровы, веялки, земля где? Что, кроме голых рук, у меня осталось, а?
Колесников почти кричал; по заросшему щетиной лицу пошли желваки. Он принялся нервно ходить взад-вперед по комнате, и хромовые его сапоги напряженно поскрипывали. Закурил, отвернулся к окну, дым синими тощими кудрями расползался над его головой. Мария Андреевна смотрела ему в спину, понимая все больше, что пришла зря, что перед нею непонятный теперь, чужой человек, как и эти фотографии на стене, как весь этот дом с пьяными вооруженными мужиками, с явно подслушивающими под дверями Опрышкой и лысой этой образиной, Филькой Струговым.
— Танька… как там? Оксана? — глухо, не оборачиваясь, спросил Колесников.
— Наведался бы, не за тридевять земель штаб твой. — Мария Андреевна тяжело поднялась. — Или белобрысая та не пускает, а? Лидка, говорят…
— Ну ладно! — Колесников резко оборвал мать, раздавил подошвой сапога окурок. — Лидка эта при штабе, грамотная она, бумаги составляет. Набрехать все могут. А уж Данила при Оксане… тут как не крути, все углы выпирают наружу. Народ зря балакать не станет.