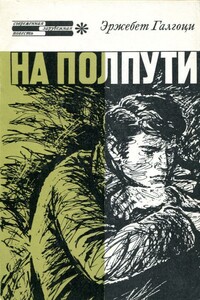Ее затуманенный взгляд едва различил фигуру старой женщины в тени однобокой груши. Женщина лущила кукурузу, а сейчас поднялась, нерешительно шагнула к дочери, стоявшей как изваяние, и тихо, приниженно вымолвила:
— Не гони меня, дочка.
Аннуш из последних сил отозвалась:
— Оставайтесь, мама! — и, шатаясь, пошла в дом, чтобы никто не увидел, не услышал ее рыданий.
Оставайтесь… Оставайтесь?.. Нет, завтра она ее выпроводит. Не выгонять же среди ночи.
Аннуш горящими глазами вглядывалась в темноту.
Та стена, что возвела она мысленно по дороге от Йозана до белого креста, вдруг рухнула, и каждый кирпич давит ей на грудь.
Она чувствует, что мать тоже не спит. Какой приниженной была она весь этот вечер! Всякую работу буквально выхватывала у Аннуш из рук. Сама вымыла ноги детям, уложила их спать, рассказывала сказки. Словно во что бы то ни стало хотела доказать, что может быть полезна. От всего этого хотелось плакать!
В комнате, где они спали, казалось, нечем было дышать, воздух стал невыносимо плотный, как цемент. Хоть топором руби. Чем угодно!
— Зачем вы это сделали, мама? — выкрикнула она так, что спавшая с нею рядом девочка даже вздрогнула.
Не скоро пришел ответ с соседней постели:
— Не надо об этом, дочка. Это было давно. Не стоит бередить зажившую рану.
— Зажившую? — Аннуш истерически рассмеялась. — Так, по-вашему, зажившую? Для вас, может, и да, вы за свое расплатились. А я-то за что расплачиваюсь? За что? С тех пор как живу? За что?
Ответа не было, да она и не ждала ответа.
— Как вы думаете, кто я в деревне? Дочь Нани Гомбоц. Только дочь Нани Гомбоц. А что я работящая, честная — до того никому и дела нет… — Аннуш задохнулась от рыданий. — Я бы рада ноги целовать тому, кто не пнет меня… — всхлипывая, продолжала она. — Я и беспутная, я и гулящая, — какая же еще дочь может быть у этакой матери? А я… я даже и детей-то для того родила, чтобы было кого любить…
Постепенно Аннуш затихла. По крайней мере она выговорилась. Хоть раз в жизни кому-то излила душу.
Долгое время спустя мать проронила:
— Не я это сделала. Итальянец.
Аннуш молчала.
— Я не хотела рассказывать тебе, ведь даже на суде никто не поверил, — тихо продолжала старуха. — Клянусь невинной жизнью твоих детей, которые мне дороже всего на свете, что говорю чистую правду.
Аннуш простонала:
— Рассказывайте.
— Влюбилась я. Совсем голову потеряла из-за итальянца этого. С ума по нему сходила… Девятнадцатого июня ночью мы лежали на этой постели, и вдруг стук в окно. Я испугалась. Кто там? Это я, Андраш. Мой муж! А я уже сама не своя от страха. Джузепп, говорю итальянцу, прячься. Лезь под кровать. Или в шкаф. Или спрячься за дверью. Быстро! Джузепп встал с постели, натянул штаны и говорит: «Никуда я не полезу. Ты моя жена, и этот человек больше не притронется к тебе». Я просила его, молила на коленях: спрячься. Нет! А муж уже ломится в дверь. Отец создатель, что делать? И ты проснулась от шума, принялась кричать…
— Сколько мне было? — пересохшими губами спросила дочь.
— Полтора года… Я взяла тебя на руки и открыла дверь. Муж ворвался: «Ах ты шлюха, ах ты потаскуха! Значит, это правда. Уже и на фронт докатились про тебя слухи!» И ну кулаками бить меня по голове, по чем попало. Я все спиной к нему поворачивалась, чтобы тебя заслонить, не то он убил бы тебя с одного раза. Вдруг чувствую, оттащили его от меня, оглядываюсь, а они с итальянцем дерутся. Все перевернули, побили, лица у обоих, как у зверей… потом итальянец поднялся, дышит тяжело, а муж так и остался лежать, и из горла у него кровь течет…
Старуха с трудом перевела дух.
— Я совсем обмерла. Руки, ноги у меня похолодели, пошевельнуться была не в силах. Итальянец оттолкнул меня от двери — прочь, говорит, отсюда — и выволок тело мужа из дому… Где-то перед рассветом он вернулся. Я все еще стояла в дверях, тебя, не помню когда, уложила обратно в постель. «Что ты наделал, Джузепп, что ты наделал?» — твердила я. Он ужасно обозлился. «Заткнись ты, баба. Встреться мы на фронте, конец все одно был бы тот же: либо я его, либо он меня». И пригрозил: если донесу на него или проговорюсь кому, то он и меня убьет. «А если не успею убить, — говорит и ухмыляется, злобно так, — тогда скажу, что это ты меня подговорила».