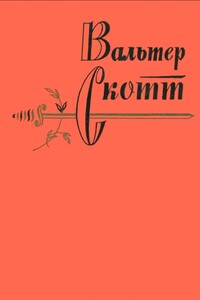— Что тебе, старче почтенный? — спросил Божерок.
— Войдем в светлицу, и там поведаю тебе.
Жрец встал и пошел в светлицу; за ним вошел старик и, плотно притворив дверь, спросил:
— Одни ли мы?
— Да, одни. Молви, что надо.
Старик вдруг выпрямился и разгладил свою седую бороду.
— Олаф! — воскликнул Божерок. — Ты в Киеве? Давно ли?..
— Недавно. Все наши планы разлетаются в пух и прах… Всюду неудача… Видно, стар уж я стал…
— Да, печально, что Руслав отказывается от почестей, какие ожидают его…
— Хорошо, попробую еще раз поговорить с ним, на всякий случай, да не знаю как… пришел поэтому поговорить…
— Молви, — отвечал жрец.
— Слыхал я стороной, что ты в опале у князя, видно, потому, что он окружен христианами, и почем знать, не станет ли и сам христианином.
— Ни за что не допущу и собственноручно убью его, если он задумает стать им… Довольно того, что боги терпят издевательства его приближенных…
— Да, ты прав… Много они терпят несправедливостей… уж если ты, первосвященник, не можешь повлиять на Руслава, кровь от крови и плоть от плоти моей, то да будет воля твоя над ним и я умываю руки… Найди подобающий случай поговорить с ним, и если это не поможет, то в твоей власти казнить или миловать и да княжить над Русью Малушино дитя…
— Надо искоренить христиан и отбить Руслава у них; нужно предать смерти Извоя, Феодора и других, а если это не повлияет на него и христиане найдут заступничество у князя, то уничтожить и Владимира, и тогда, кроме Руслава, некому будет княжить над Русью… Тогда киевляне поневоле изберут его своим князем…
— Да будут трижды прокляты те, кто совратил его с пути истинного, все слуги мои: Феодор, Симеон, Якун и другие… Один ты останешься верен мне и себе, и я благословляю день и час, когда впервые ты протянул мне руку помощи… Оба мы хлопотали к лучшему, но теперь князь силен и, пожалуй, поздно думать о восстановлении нашего рода… Да сгинут они все с лица земли!..
— Коли так, я буду действовать и начну с Извоя… ненавистного мне, как и все другие христиане; Руслав еще молод, может опомниться и согласится на все, если увидит, что нет никому пощады… На днях я постараюсь уличить его при всем честном народе и потребую от князя искупления его вины смертию, а дальше посмотрим, что скажут остальные…
— Но каким образом ты уличишь его?
— На днях предполагается совершить жертвоприношение Перуну, и когда увижу, что он не преклонит колена, как не преклонял и прежде, я обращу внимание людей и потребую жертвы человеческой…
— Да будет на то воля твоя, — сказал Олаф.
— Но прежде, чем совершить это, я думаю пойти сегодня в полночь к капищу, где стоят разоренные стены их храма: там, говорят, будут все христиане… Я хочу видеть их всех и знать по именам… чтоб потом легче было уличить их.
— Ты говоришь, что сегодня христиане будут в храме? — спросил Олаф.
— Перед тобой был у меня Вышата и говорил, что ему донесли, что сегодня там будет сборище христиан. Наверное, будут Извой и Руслав…
— В таком случае не мешкай…
— Идем!.. — сказал Божерок, взяв свой длинный посох.
Но едва они вышли за калитку, как заметили двигавшуюся толпу мужчин, направлявшихся к капищу.
— Видишь, — прошептал Божерок, — кажется, это христиане, а между ними и Руслав…
— Глаза мои слабы, — отвечал Олаф. — Я пройду околицей, чтоб не попасть кому-нибудь на глаза.
Подойдя к храму, Божерок услышал пение христиан, потом раздался знакомый ему голос Феодора, затем стройное пение клира. Вдруг послышались чьи-то шаги… Это был Вышата.
В эту минуту послышалось пение, в котором они услышали молебствие за князя, помазанника Божия и избранника народа…
— Слышишь, они молятся за князя, — прошептал Вышата…
— Молитвы нечестивых не приемлются богами, — зло возразил жрец.
В ту же минуту раздался чей-то крик: «Под дубом, ближе к капищу!»
— Кажется, мы обнаружены, — прошептал Вышата. — Как бы не накинулись на нас.
— Перуновы ищейки! — крикнул кто-то. — Бери их, вяжи!..
— Проклятый Тороп, — прошептал Вышата, — всюду он, словно леший, таскается… Видно, и он одной веры с ними…
Вышата и жрец побежали в разные стороны, боясь быть узнанными христианами.