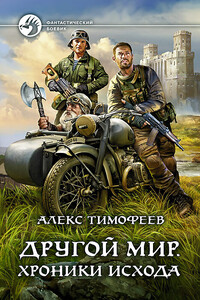Дорожкин пошел к церкви и, еще не доходя до ее дверей, вдруг услышал музыку. Чудесным образом такты мелодии оживляли и церковную ограду, и саму церковь, и даже серое небо над головой. Знакомый волшебный голос задорно и глубоко пел, выговаривал столь же знакомые слова. Странно его было услышать именно здесь. Едва ли не столь же странно, как слышать, видеть и пытаться понять все прочее, что происходило с Дорожкиным в маленьком подмосковном городишке.
Allez, venez, Milord!
Vous asseoir a ma table,
Il fait si froid, dehors,
Ici c'est confortable.
Laissez-vous faire, Milord,
Et prenez bien vos aises,
Vos peines sur mon сoeur
Et vos pieds sur une chaise.
Je vous connais, Milord,
Vous ne m'avez jamais vue.
Je ne suis qu'une fille du port,
Легкая мелодия мешалась с печальными паузами и медленным речитативом, чтобы вновь с французским прононсом окатить задором маленького гениального существа. У дверей музыка стала громче, Дорожкин потянул на себя створку, и музыка, только что гулявшая под сводами церквушки, утихла.
— Здравствуйте, — сказал Дорожкин священнику, который сидел в центре зала на скамье. Рядом стоял старенький проигрыватель.
— Здоровы будете, коли не шутите, — кивнул священник, снимая с винила звукосниматель и расправляя полу рясы.
— Не торгуете в храме?
Дорожкин вдохнул запах ладана, окинул взглядом резной иконостас, киоты, покрытые цветастыми фресками колонны и своды, поднял взгляд к тяжелой люстре. Сквозь окна в куполе церкви падали лучи света, но их было мало, и огонь одиноких свечей на массивных многоярусных подсвечниках не терялся.
— А вы купить что хотите? — прищурился священник, поглаживая короткую, но окладистую светлую бороду.
— Нет, — пожал плечами Дорожкин.
— А что тогда спрашиваете? — Взгляд у священника был усталым, глаза покрасневшими. — Я же не спрашиваю вас, отчего вы у входа не перекрестились?
— А я отвечу, — остановился у одной из икон Дорожкин. — Не хочу.
— Почему? — не понял священник. — Вы не христианин?
— Христианин, скорее всего, — задумался Дорожкин. — А по крещению, так православный. Но не хочу. Клясться не хочу. А для меня крестное знамение как клятва. Зачем?
— Клятва? — задумался священник. — Это вас гордыня корежит. Какая уж тут клятва? Почитание Господа Бога. Изображая крест на теле своем, показываем мы, что принадлежим Спасителю и служим Ему. Хотя да… Клятва. Зарок. Наверное…
Священник покачал головой, затем кивнул, словно спорил и одновременно соглашался сам с собой, поднял звукосниматель, с шорохом опустил его на грампластинку и, прикрыв глаза, негромко запустил под своды церкви все ту же песню.
— Музыку слушаете, — пробормотал Дорожкин. — Странно как-то. Я думал, что в церкви должна идти служба.
— Она и идет, — не открывая глаз, кивнул священник. — Но я ночью служу. Почти всегда только ночью. Всенощную.
— Почему так? — не понял Дорожкин. — Разве всенощную не накануне воскресных дней служат? Ну или праздников?
— У нас так, — почти безразлично произнес священник, покачивая головой в такт мелодии. — Прихожане мои приходят ко мне ночью, поэтому служу я ночью.
— А днем слушаете Эдит Пиаф? — улыбнулся Дорожкин. — Почему?
— Слушается, и слушаю, — ответил священник. — Такой талант только от Бога мог быть. И женщина эта пронесла свой талант через свою жизнь в муках и трудах, претерпела многое, но не зарыла его в землю, донесла до ушей и сердец. Голос ее от Бога, так почему ему не звучать в церкви?
— И не поспоришь… — едва слышно прошептал Дорожкин и подошел к иконостасу. Вырезанные с удивительным мастерством виноградные гроздья и листья оплетали каждую деталь деревянного шедевра. Дорожкин даже протянул руку, чтобы убедиться, что это не литье из золоченого пластика.
— Липовый, — подал голос священник. — Краснодеревщик местный резал. Редкий мастер. Молодец Борька.
— Почему днем никого нет? — спросил Дорожкин, рассматривая иконы. — Почему народ днем не ходит в церковь?
— Не хочет, — прищурился священник. — Не до того ему… пока.
— Пока? — остановился Дорожкин. — Как вам, святой отец, то, что творится в городе?
— А что там творится? — поднял брови священник.