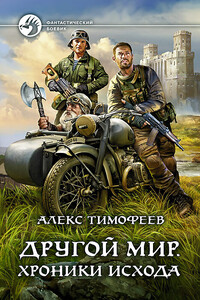— Или как снаряд, как мина, как нож, как гравий, что смешивается с бетоном, — расхохотался и размазал по щеке слюну Неретин. — Да, это мерзко, но это так. Так было, и так будет. По крайней мере, в обозримом будущем. Плюньте. У вас проблемы с осмыслением действительности? Бред. У вас проблемы с терпением. Наблюдайте, и все встанет на свои места. И не торопитесь. Принимайте все как есть. Я понимаю, что осознание бытия коррелирует с уровнем его непереносимости, но уверяю вас, то, что приходится испытывать большинству наших с вами соотечественников, имеет к непереносимости гораздо более прямое отношение. Смотрите и фиксируйте.
— Вы хотите сказать, что все-все, что я вижу, именно так и выглядит? — не понял Дорожкин. — Что вся эта иррациональность, вся эта нечисть, все это есть на самом деле?
— Эта нечисть, — Неретин икнул, выплеснув в горло остатки коньяка, — сейчас моет в коридоре института пол. Бродит по коридорам второго этажа. Спит на балках перекрытий. Выбирается по ночам в город, в лес. Охотится, ест, пьет, размножается, испражняется. Вот это и есть реальность. Не нужно ее осмысливать и тем более оценивать. Ее нужно учитывать. Et cetera, дорогой, et cetera. И вот еще один мой вам совет. Раз уж вы решили док…к…копаться до к…корней, ищите того, кто оплачивает музыку. Ищите того, кто платит. Понятно? Того, кто платит…
— Промзона? — предположил Дорожкин, хотя глаза Неретина стремительно стекленели. — Предприятие «Кузьминский родник»?
— Нет, — почти захрипел от хохота Неретин. — Нет никакой промзоны. Нет. Вы только Адольфычу об этом не скажите, а то ведь и вас не будет…
Неретин хотел еще что-то сказать, но прикусил язык и плюхнулся щекой о мраморную столешницу.
«Точно рассадил скулу», — мрачно подумал Дорожкин.
— Эй… — В дверной щели показался нос Дубицкаса. — Молодой человек, вам лучше всего отправиться восвояси.
— Да, конечно. — Дорожкин вышел в коридор. Фигурки уродцев исчезли. Над головой что-то поскрипывало, словно этажом выше неторопливо прогуливался великан.
— Теперь до завтрашнего утра, — вздохнул Дубицкас. — Георгий Георгиевич в последние годы стал несколько… впечатлительным.
— Зачем он это делает с собой? — не понял Дорожкин и быстро перебрал в голове все известные ему фразы на латыни. — Или это все входит в процесс познания? Per aspera ad astra?[21]
— Делает с собой? — округлил глаза старичок. — Он предохраняет вас от себя. Вы видели его трезвым? Не рекомендую. Раньше надо было приходить к нему, раньше. Много лет назад. Много. Tarde venientibus ossa.
Дубицкас развернулся и засеменил куда-то в глубину здания, бормоча одно и то же: «Tarde venientibus ossa. Tarde venientibus ossa. Tarde venientibus ossa».
Дорожкин постоял полминуты в опустевшем коридоре и поплелся обратно в сторону вестибюля. Там он остановился, пошарил глазами по стенам и подошел к стендам, на которых были укреплены уже пожелтевшие от времени фотографии. В ряду незнакомых лиц Дорожкин обнаружил фото точно такого же, каким он был и теперь, Вальдемара Адольфовича Простака с пометкой «начальник полевой лаборатории института», стоявшего возле открытого газика, рядом — портрет мордастого, уверенного в себе мужчины с подписью «директор института Перов С. И.» и далее в ряду — более молодого и подтянутого Неретина Георгия Георгиевича, числящегося «научным руководителем института», и портрет Дубицкаса Антонаса Иозасовича, еще чьи-то портреты и фотографии. Напечатанные на слепой машинке, да и почти выцветшие буквы под фотографиями были едва различимы, но Дорожкин приподнялся на носках и все-таки разглядел. Под фотопортретом Дубицкаса, как и под многими другими, значилась не только дата рождения, но и дата смерти. Дорожкин отпрянул от стенда и кинулся вон из здания.