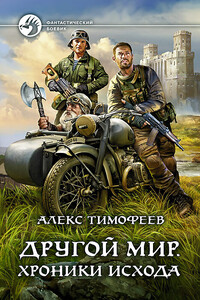Пришел в себя Дорожкин уже почти у главных ворот. Его тащили на плечах, волочили расслабленными ногами по асфальту, а навстречу, в полумраке, двигались все те же согбенные фигуры с тачками и носилками, наполненными распиленными на пилораме досками.
— Очнулся, вот и славненько, — пробурчал с облегчением Урнов. — Я ж говорил, что он очнется. Живучий инспектор. Теперь давай сам ножками, сам. Ну отбросило, приложило о стену, а кто тебя просил в силовую установку стрелять? Нет, ну я бы понял — заминировать и отойти. Знаешь анекдот, как одна обезьяна пилила атомную бомбу…
— Где пистолет? — встал на ноги Дорожкин. На языке скопилась какая-то горечь, все тело ломило. Не от удара, а от знакомого с юности ощущения ломоты, которая бывает на следующий день после тяжелой работы. Особенно когда идешь с бригадой крепких мужиков по убранному картофельному полю и забрасываешь через борт тракторной телеги огромные кубинские мешки, набитые картошкой.
— На месте твой пистолет, — пробормотал Мещерский. — В кобуре. Минус два патрона и твои мозги. Ты думаешь, тебя молнией шибануло? Как бы не так. Вот эти самые корни сплелись во что-то типа огромного кулака и приложили тебя со всей дури. Еще легко отделался. Но без сотрясения мозга, думаю, не обойдешься.
— Что скажешь? — спросил Дорожкин.
— Бежать отсюда надо, — прошептал Мещерский. — Но не сегодня. Сейчас ко мне домой, отсыпаться. Тут рядом.
— Тихо, — приложил палец к губам Урнов. — Выходим через главные ворота. Сейчас они открыты, там колхознички с пилорамы, как всегда, дровишки доставили. А эти их, значит, таскают в складской цех и жгут там. Зачем — не знаю, спрашивали уже. Не разбегаются, потому что там у выхода охрана. Но она натаскана только на колхозничков. Зайти мимо нее в промзону нельзя, а выйти — сколько угодно. Главное, ни звука!
Все стало ясно, едва Дорожкин вслед за Урновым и Мещерским миновал приоткрытую створку ворот. Чуть-чуть дальше, за кучей пиленых досок, возле которых возились колхознички, у закутанных в брезент автоматов газированной воды лежали сфинксы из института. Они по-прежнему казались каменными, только их головы поворачивались и в каменных ртах подрагивали каменные языки. Выдохнуть Дорожкину удалось только тогда, когда чудовища стали неразличимы во мраке.
— Ну что? — спросил Урнов. — А мне понравилось. Инспектор, а давай ты себе оставишь ту резину? Ну мало ли, зима все-таки. Куда ж без шипов? А если прогуляться еще куда, то зовите. В охотку.
Золотозубый скрылся в темноте. Мещерский потянул Дорожкина за рукав:
— Пошли, Дорожкин. Мне сейчас надо обязательно напиться, а то, чувствую, мой кулер на грани перегрева. Пошли, мы уже у моего дома стоим.
Дорожкин оглянулся. У обычного кузьминского дома в свете тусклой подъездной лампы возились двое колхозничков. Один скреб метлой брусчатку, другой набивал собранным полиэтиленовый мешок. Каменные рожи на стене дома косились глазами на припозднившихся гостей с подозрением.
— Дурдом, — прошептал Дорожкин.
— Дургород, — поправил его Мещерский. — Психушка. Знаешь, я бы лучше перешел на амбулаторное…
— Мальчики, подъем!
— Сейчас, — пробормотал Дорожкин.
Какой день-то? Ведь воскресенье? Ну когда еще Машка могла позволить себе встать раньше Дорожкина? Только в воскресенье. Тогда почему он не помнит субботы?
— Подъем, подъем!
— Дай поспать! — проворчал Дорожкин и тут же открыл глаза.
«Почему мальчики»?
Мещерский лежал на соседней кровати и смотрел на него глазами больного пса. Так. Сегодня было не воскресенье, а пятница. Он не у себя дома, а у Мещерского. Машка не его жена, а жена опять же Мещерского, но и от того она уже ушла, поэтому тот и смотрит затравленным взглядом брошенного, опять поднятого и обласканного перед новым вбрасыванием. Или броском? Или бросанием?
— Сколько времени? — спросил Дорожкин.
— Восемь утра, — просипел Мещерский, вытащив руку из-под одеяла и дав понять, что, по крайней мере, до пояса он спит одетым.
Дорожкин, в отличие от Мещерского, спал раздетым и совершенно точно принял еще вчера ночью душ. Или сегодня ночью?
— Мальчики! — Голос Машки стал более настойчивым. — Хороший кофе. Тосты. Яичница с хрустом. И тонкие… тонюсенькие… тончайшие полоски бекона. Зато много.