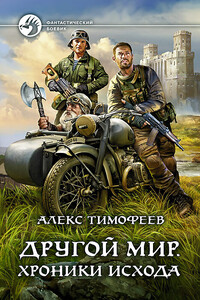Дубицкас замер. Задрожал. Медленно стянул с носа очки, снова убрал их в карман и произнес те самые слова, после которых Дорожкин своею собственной рукой обратил старика в горку истлевшей плоти.
— Дорожкин, ты что, оглох?
Мещерский, запыхавшись, дернул его за плечо.
— Ты куда? Я за тобой, считай, от почты бегу! Ору, ору. Окаменел, что ли?
Дорожкин огляделся. Он стоял напротив кинотеатра. Прошел, задумавшись, чуть не половину города.
— Я ничего не нашел, — развел руками Мещерский. — Нет, кабелями еще буду заниматься, а насчет тридцатого октября шестьдесят первого года — ничего серьезного. В тот день в одиннадцать часов тридцать две минуты взорвалась та супербомба, и все.
— В одиннадцать часов тридцать две минуты? — переспросил Дорожкин.
— Точно так, — кивнул Мещерский, успокаивая дыхание. — Еще что-то надо отыскать в Интернете?
— Скачай мне словарь латинских выражений, — попросил Дорожкин. — Хотя нет, уже не нужно. И вот еще, — он махнул рукой, — вон больница. Ты там хотел с чем-то разобраться? Только будь осторожнее.
Возле здания администрации стояли высокий роскошный автобус, директорский «вольво» и фура той же марки. В кабине фуры копался Павлик. Дорожкин встречал водителя Адольфыча в городе нечасто, но никогда не заговаривал с ним. Хватило пары раз, когда в ответ на вежливое «Здравствуйте» он получал полный недоумения и холода взгляд. В этот раз к холоду добавился внимательный прищур, а всего-то и вымолвилось сакраментальное: «И жнец, и на дуде игрец».
На входе в администрацию за высокой стойкой сидел Никодимыч. Стульчик ему выделили явно детский, отпилив от него подлокотники и прикладной столик, но все равно из-за стойки виднелась только почему-то летная фуражка.
— Доброе утро, — подошел к стойке Дорожкин. — Мне к Адольфычу.
— Доброе? — не понял Никодимыч, прихлебывая чай из чашки, которую он, судя по явлению банного на круглой поляне, носил с собой на работу из дома. — Утро добрым не бывает. Бывает холодным, бывает теплым. Зимним может быть. Или летним. Слякотным. Ветреным. Да каким угодно, но не добрым. Злым, впрочем, тоже. Хотя если бы ты работал у Адольфыча…
— Мне именно к Адольфычу, — повторил Дорожкин.
— Ты вот что имей в виду, — понизил голос Никодимыч, — я твою кручину не теребил, но просьбу имею. О том, как я коровий лепех у Шепелевой месил, зря не болтай. Мне перед Адольфычем авторитет ронять себе дороже. Договорились?
— Не из болтливых, — кивнул Дорожкин.
— Вот и славно, — расплылся в улыбке Никодимыч. — Кабинет Адольфыча на пятом этаже, только ты не торопись. Он же тебе на одиннадцать назначил, так у тебя еще тридцать минут. Секретарь у него — Мила, стерва высочайшей пробы, раньше времени не пустит. Так что погуляй, осмотрись, как работает городская администрация. На первом этаже у нас столовка. На третьем — буфет. А в одиннадцать прошу пожаловать к шефу.
Есть Дорожкин не хотел. Он оглянулся, расстегнул куртку, подошел к газетному ларьку, из-за стекла которого на него смотрела полная киоскерша, взглянул на газеты. Газеты были недельной давности. Вероятно, городская фура ходила в Москву за товаром, и за газетами в том числе, раз в неделю. Дорожкин купил блокнотик, пару ручек и медленно пошел по пустынному коридору, в который выходило множество дверей.
Все они были застеклены, и застеклены не рифленым стеклом, а обычными стеклопакетами, начищенными до такой степени, что казалось, будто стекол нет вовсе. Дорожкин бы так и подумал, если бы прямо на стекла не крепились таблички, на которых были указаны должности и имена хозяев кабинетов. Директора департаментов, инспектора, начальники отделов и инструкторы всех возможных видов человеческого применения вытянулись сплошной лентой. Люди в кабинетах находились по одному, иногда по двое, но за каждым стеклом Дорожкин видел одно и то же: человек сидел за столом, положив руки на обязательно чистую столешницу, и что-то старательно писал на листе бумаги. И перед каждым лежала стопка чистых листов и стопка исписанных.
Дорожкин дошел до конца коридора, в конце его нашел лестницу и поднялся на второй этаж, после чего прошелся по такому же коридору второго этажа и перешел на третий. На каждом этаже происходило то же самое, разве только в нескольких кабинетах, которые отличались от прочих черными, а не золотыми табличками, люди не писали, а сидели у тех же стопок белых листов неподвижно, уставившись перед собой. Насколько Дорожкин понял, это были судьи, прокуроры, адвокаты и судебные исполнители. Никто из них работой перегружен не был. В конце коридора, между залом судебных заседаний и лестницей, обнаружился буфет. Румяная буфетчица подала Дорожкину чашку кофе и бутерброд, которые навели на него уныние — так они напомнили студенческие годы и бедную столовку на первом этаже рязанского вуза. Дорожкин оставил надкусанный бутерброд и пригубленный кофе на круглом столике-стойке, с трудом выдавил из себя «спасибо» и перешел на четвертый этаж. Там продолжалось все то же самое, разве только двери были массивнее, таблички, на которых слова «отделы» и «департаменты» сменились важными «управлениями», ярче, а обладатели кабинетов — толще. К тому же и писали они медленнее и явно более крупными буквами. На пятом этаже дверь была только одна.