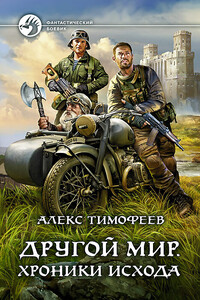— Что это значит? — спросил Дорожкин.
— Почти ничего, — усмехнулась Маргарита. — Чувствуют похоже, ненавидят похоже, боятся одного и того же.
— Разве Шепелев кого-то боялся? — не понял Дорожкин. — Мне казалось, что как раз наоборот.
— Боялся не боялся, а нет его больше, — заметила Маргарита. — Нет, что-то ее спугнуло посерьезнее обычных вопросов… Ладно. Поехали.
Она управляла уазиком сама. Довезла Дорожкина до его дома, дождалась, когда он выйдет наружу, и тут же рванула с места. Дорожкин посмотрел ей вслед и с облегчением вздохнул, не хотелось ему, чтобы Маргарита Дугина вдруг решила проводить своего непутевого подчиненного до дверей его квартиры. Он и в самом деле изменился. Но не в прачечной. Чуть раньше.
Фим Фимыч понял его без слов. Молча выудил стаканчик, молча плеснул загоруйковки и так же молча приложил ладонь к виску в ответ на такой же жест Дорожкина. Младший инспектор поднялся на лифте на свой седьмой этаж, разулся и упал на постель, не раздеваясь…
Утром Дорожкин снова месил воду в бассейне. Когда же он, чувствуя приятную тяжесть в плечах, выбирался на бортик, по плечу его похлопал холодной ладонью Адольфыч:
— Как настроение, инспектор?
— Помнится, бывало и получше, Вальдемар Адольфыч, — отозвался Дорожкин.
Засосавшая его со вчерашнего дня пустота не отпускала.
— Вот в чем беда, — закивал Адольфыч. — В памяти. Не то что ее вовсе не следовало бы сохранять, ведь память — это еще и опыт, но, когда опыт излишне окрашен эмоциями, это излишество. Жизнь превращается в беспрерывную ломку. А провокацией служат воспоминания. Пережитое счастье подобно пережитому кайфу. Наркоман страдает от отсутствия наркотика, а обычный человек от утраты молодости. От старости, другими словами. От старости, которая сама по себе есть усталость от ломки по невозвратимой молодости.
— Усталость от жизни, как мне кажется, в вашем городе грозит не всем, — заметил Дорожкин.
Мэр был сухощав, но сухощав не болезненно, а естественно и гармонично. Вряд ли у него были проблемы с суставами или сердцем. Да и муки совести никак не проявляли себя в твердом взгляде.
— Это точно, — заметил Адольфыч. — К примеру, Олечке из прачечной удалось прекрасно без нее обойтись.
— И одной из женщин, — добавил после короткой паузы Дорожкин. — Я не пытаюсь оправдаться, но жертв могло быть и больше.
— Может быть, может быть, — заметил Адольфыч. — Я слышал, что ты почти все деньги отправляешь матери?
— Это меня характеризует с отрицательной стороны? — не понял Дорожкин.
— Наоборот, — поднял брови Адольфыч. — Забота о матери — это просто ценз порядочности. Тем более твои деньги — это твои деньги. Я, кстати, не хочу сказать, что отслеживаю каждый твой шаг. Просто покойная, я о Колывановой говорю, была простой женщиной, делилась с подругами некоторыми почтовыми секретами, вот дошла информация и до меня. Как тебе живется, Евгений Константинович?
— Сложно, Вальдемар Адольфович, — проговорил Дорожкин. — Не могу привыкнуть.
— Что так? — удивился Адольфыч. — Смутили мужички за оградой кладбища? А что ты предлагаешь с ними сделать? Может быть, порезать их на куски на лесопилке? Знаешь, а ведь они вполне себе чувствуют боль. Ну не так, как живые, но чувствуют. Страдают об утрате близких, с которыми могут видеться, но уже не чувствуют эмоциональной связи. Мы сейчас не будем с тобой рассуждать о причинах этого парадокса, но он существует. У каждой медальки есть не только аверс и реверс, Евгений Константинович, но и гурт, а также колодочка на грудь, и документик, и еще много всего разного. И дырочка в пиджачке тоже.
— Я как раз о дырочках хотел спросить, — проговорил Дорожкин. — Колыванова, Мигалкин, Дубровская, эта Олечка. Женщина из деревенских. Не многовато ли?
— А ты работай лучше, Евгений Константинович, — улыбнулся Адольфыч, пряча в глазах стальной блеск. — Знаешь, очень часто благотворное недеяние одних оплачивается упорным трудом прочих. Ты, господин инспектор, относишься ко вторым. Подумай об этом.
— Подумаю, — прошептал Дорожкин, стирая с лица брызги от ушедшего в воду Адольфыча.
Ромашкин был не в духе. На приветствие Дорожкина не ответил, хмуро прошел мимо, шелестя на ходу своей многострадальной папкой. Зато Кашин показал Дорожкину из-за стекла дежурки большой палец.