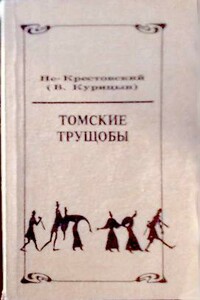— А она что же не пойдёт разве к заутрене?
Алексей Петрович отрицательно покачал головой.
— Нет… Она чувствует себя не совсем хорошо. Прихварывает чо-то.
Вышли, наконец, барышни.
Обе они были в светлых изящных платьях.
При виде Ниночки пасмурное лицо молчаливого Евсеева сразу просветлело.
Он неловко, смущённо краснея, поздоровался с девушками.
— Долго же вы, однако, наряжались! — пошутил Алексей Петрович.
— А это всё ваша ученица виновата! — бойко воскликнула Гликерия Константиновна. — Целый час перед зеркалом жеманилась. Вы ведь ещё не знаете — какая она записная кокетка!
— Ну, что ты Лика, — сконфуженно протестовала Ниночка.
Щёки её порозовели от смущения, а в уголках рта дрожала сдерживаемая радостная улыбка. Она знала, что новее платье очень идёт к ней, делает её грациозной и хорошенькой. И сознание это наполняло душу Ниночки чувством большой, шумной, полуребяческой радости…
Пошли в церковь.
Как-то само собой вышло, что Евсеев всю дорогу не отставал от Ниночки.
А когда поднимались в гору, к монастырю, он взял девушку под руку.
Так они прошли до паперти…
Алексей Петрович шли с Гликерией Константиновной несколько впереди.
О чём-то серьёзно вполголоса разговаривали.
Ниночка доверчиво опиралась на руку спутника.
Евсеев казался странно рассеянным и нервным.
Отвечал невпопад.
Многозначительно молчал.
По временам предостерегал Ниночку:
— Осторожнее, здесь камень. Не оступитесь!
Слова были самые обыденные, простые, но в голосе говорившего звучали какие-то новые, нежные, тёплые нотки.
И от этого девушке делалось немножко страшно и беспричинно весело…
Церковь была древней архитектуры с низким, тёмным притвором, где стоял запах сырого склепа…
Нужно было спускаться по широким каменным ступеням.
Ниночка прижималась к кавалеру и с преувеличенным испугом шептала:
— Точно в подземелье идём… Как здесь сыро и холодно!
В церкви стояли в нише у окна, разговаривали шёпотом, наблюдали.
Строгая старинная живопись икон, тоненькие свечки перед образами, старенькие седые монахи, неторопливая служба, — всё это создавало повышенное молитвенное настроение.
Ниночка молилась от всего сердца.
Евсеев сбоку смотрел на её наклонённое лицо, на эти маленькие, почти детские пальчики, такие трогательно слабые и хрупкие…
И вся она казалась ему такой маленькой, такой беззащитной и бесконечно дорогой…
Служба ещё не кончилась, когда Евсеев[3] предложил подняться на колокольню. По тёмным, пыльным лестницам они добрались до верхнего яруса.
На парапете колокольни горели плошки.
Близко к прорезям окон подступала синяя ночь.
В отблеске плошек выделялись — часть старого потемневшего колокола, отсыревшая штукатурка стен, какие-то балки и верёвки.
Ниночка перегнулась через парапет.
Внизу, около паперти, дрожала сеть огоньков. Смутно рисовались контуры городских построек…
Вдали на тёмном небе выделялся купол городского собора, иллюминованный разноцветными электрическими лампочками.
— Как красиво! Точно там внизу море, а эти огни — отражение звёзд в волнах…
— Осторожнее, Нина Константиновна; у Вас может закружиться голова.
…Тишину прорезал первый удар колокола. Волна медных звуков поплыла над городом.
Воздух ожил. Заколебались ночные тени.
— Пора вниз… Сейчас и наш колокол заговорит.
А снизу от паперти уже доносились стройные аккорды пасхальных песнопений.
На площадке Евсеев несколько задержался.
— Христос Воскресе! — ласково посмотрел на Ниночку.
— Воистину Воскресе! — серьёзно ответила девушка.
Он нерешительно взял её за руку…
Посмотрел и опять улыбнулся.
— Не надо, — догадалась она.
Застенчиво опустила глаза и с робкой нежностью прошептала:
— Идём. Нас потеряют.
…Светлая счастливая ночь.
…Светлые счастливые мечты.