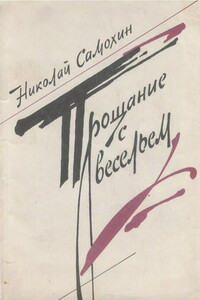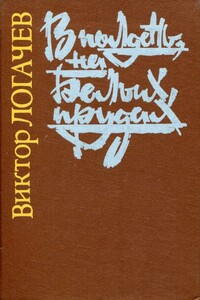— О чем?
— О Татьяне Яковлевне.
— Боюсь. Знаете, как иногда человек боится спросить… а вдруг?
— Понимаю, — мягко и сочувственно произнес Гуторин. — Но она жива, здорова и на крупной работе. Нет. Не здесь, — ответил он на его вопросительный взгляд. — По ту сторону… видимо, в Германии. Больше я вам ничего не скажу, хоть на огне пытайте. Да и вы никому ни звука.
8
Громадин прилетел под утро. Встречать его вышли Гуторин, начальник штаба Иголкин, Николай Кораблев. Они долго сидели у куч хвороста, готовясь каждую минуту, заслыша гул, поджечь их, но не пришлось: самолет появился на заре и плавно, как лебедь садится на просторы вод, приземлился на поляне-аэродроме.
По всему было видно, что Громадин страшно утомлен: глаза у него слипались, лицо покрылось морщинами, углы губ опустились, шаг вялый. Здороваясь с каждым за руку, он произносил одно и то же, словно уговаривая всех:
— Спать. Спать, товарищи. Спать! — и, только здороваясь с Николаем Кораблевым, которого ему отрекомендовал Гуторин, сразу оживился, снизу вверх глянул озорным глазом и сказал: — А-а-а! Вон вы какой! Понимаю. И вас и Татьяну Яковлевну. Ну, все понимаю. Через несколько часов прошу ко мне, — и, сев в тарантас, укатил к себе в блиндаж.
Николай Кораблев осведомился у Гуторина, когда обратно полетит самолет и где приземлится. Тот сообщил, что самолет, захватив отсюда больных и почту, вылетит сегодня в ночь, приземлится в Москве.
«Вот с ним я и отправлюсь. Узнаю у генерала про Таню и вылечу. Ведь мне надо на завод», — решил он.
Гуторин и Иголкин, проведшие бессонную ночь, завалились на постели. Прилег и Николай Кораблев, даже на какую-то минуту заснул, но тут же, будто его кто толкнул, вскочил с кровати и зашагал по блиндажу, а увидав, что Гуторин спит, вышел на волю и стал бродить по полянам в лесу.
«Только была бы жива… были бы живы! Для меня и этого достаточно. Ну, не увижу. Увижу потом, — бродя по полянам, думал он. — А дальше? Дальше оставаться здесь преступно. Надо на завод».
В таком состоянии его через несколько часов нашел адъютант Громадина и ввел в блиндаж генерала, столь же обширный, как и у Гуторина, и почти так же обставленный: тут была такая же черная рация, на стене висела, такая же карта, такой же был стол, такое же продольное окошечко, заделанное железной решеткой, такие же две кровати. Здесь было все такое же, как и в блиндаже Гуторина, только за столом сидел не комиссар, веселый, улыбающийся, похожий на подсолнух в цвету, а генерал небольшого роста.
Генерал поднялся. Адъютант подумал, что сейчас он, как обычно, разразится хохотом. Но тот сочувственно, мягко протянул руку Николаю Кораблеву и, не отпуская ее, подвел его к столу, усадил на табурет и, махнув другой рукой, чтобы адъютант вышел, сказал:
— Вы ведь коммунист? Понимаю. Коммунист — это не бесчувственный столб. Такое могут утверждать только пошляки. Коммунист — это человек железной воли и больших чувств.
— Да, я коммунист, — сказал Николай Кораблев, уже предчувствуя страшное и непоправимое.
— Так вот, Николай Степанович… сын ваш и ваша теща погибли.
Николай Кораблев пошатнулся так, что под ним заскрипел табурет, и почти одним дыханием спросил:
— Где? Когда?
— Жена ваша… — как бы не слыша его, продолжал Громадин: — Очень долго болела. Она находилась на грани безумия, — и, рассказав все, что произошло с Татьяной, он добавил: — Но теперь она под Берлином, как мне стало вчера известно. — Он встал и мелким шажком забегал из угла в угол, изредка бросая взгляд на Николая Кораблева, который сидел за столом, обняв обеими ладонями крупную кудлатую голову. — Да! — резко, как в барабан, ударил генерал. — Горе большое. Татьяну Яковлевну это горе чуть не сразило, но она нашла в себе мужество и встала в ряды борцов за нашу родину… за социализм, Николай Степанович… за то, что мы с вами создавали десятки лет, за что люди шли на каторгу, на виселицу, под расстрел. Она нашла мужество в себе, — нарастяжку повторил он и еще добавил: — Она — наше поколение. А мы?
Тогда Николай Кораблев отнял ладони от головы, в упор посмотрел на него и тоже нарастяжку произнес: