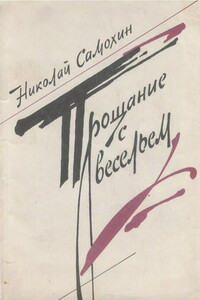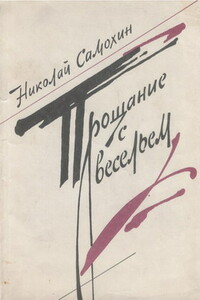— Николай Степанович, отдохните. Нам еще длинный путь предстоит, а вы без привычки.
— В самом деле, Николай Степанович, — вмешался Петр Петрович, — для них все это — легкое дело, вроде прогуляться. Давайте посидим за столом, вы нам расскажете, как у вас дела на Урале, а мы вам о том, что делается тут у нас.
Николай Кораблев с удивлением посмотрел на Петра Петровича и, тревожно провожая глазами Яню и Сиволобова, присел за стол.
— А откуда вам известно, что я с Урала?
— Яков Иванович сообщил, кто с ним прибыл, — ответил Петр Петрович и еще что-то было хотел сказать, но в это время на печке поднялась взлохмаченная головка девочки, и он, шагнув, беря девчушку двумя пальцами за щеки, произнес: — Доченька! Проснулась? Иди чайку попей.
— Шарик щипатца, — произнесла та тоном взрослой деревенской женщины.
Тут же выскочила из-под одеяла еще девочка, гораздо меньше первой, и кубарем свалилась отцу на руки, хватая его за нос, за губы, за уши, лепеча что-то весьма невразумительное.
— Деда, капустки, — проговорила первая девочка.
— Сейчас, сейчас, хорошенькая. — Тимофеич, захватив щепотью в блюде капусту, подал внучке.
В комнату вошла Елена Егоровна. Хотя и сурово, но с оттенком большой любви произнесла:
— Проснулась, Маша? Опять капустку?.. И на постель? И ты тут, Шарик? — упрекнула она младшую дочь.
— Ту! Ту! Ту! — по-детски строго закричала та, крепко прижимаясь к отцу.
— Вот вы и увидели все наше семейство, Николай Степанович, — сказал Петр Петрович. — Закусывайте, пожалуйста.
— Не пьет! — удивленно воскликнул старик, показывая локтем на Николая Кораблева.
— Спор у нас, Николай Степанович, — оживленно заговорила Елена Егоровна, садясь рядом с мужем. — Я утверждаю, детей надо кормить по часам, спать укладывать в одно и то же время. А Петя нарушает.
— Да ведь, Лена, нас с тобой воспитывали не по часам. Когда хотели есть — ели, когда хотели спать — спали.
— Даже сидя, — добавил Тимофеич. — Петр у нас бывало вот так возится, возится у верстака… я ведь столярничал… глядишь — присел на стружки и спит. Я матери: «Отнеси его на печку». А она мне: «Ничего. Проснется — сам улезет».
— Да разве это пример? — горячо запротестовала Елена Егоровна. — Разве можно ссылаться на то, как нас воспитывали?
— Можно, — сказал Петр Петрович. — Вот если бы тебя по часам воспитывали, ты с двумя ребятишками такой путь, да еще в грязь и заморозки, не прошла бы…
— Что за путь? — заинтересовался Николай Кораблев.
— Мы учительствовали в Могилеве. Лена и я. В одной школе. Началась война, меня призвали в армию, а она осталась там… С Машенькой, — он кивнул на старшую дочь, — да вот с этой, Шурочкой.
— Грудная была, — добавил старик, разомлев от самогонки.
— Еще сестра Елены Егоровны жила снами. Больная. Хуберкулез. Ну, я вскоре попал к партизанам. А она…
Елена Егоровна посмотрела на мужа и, как бы получив от него разрешение, положив руки на стол, сказала:
— Я ведь еврейка, Николай Степанович.
И только тут Николай Кораблев с особым вниманием посмотрел на нее. У нее золотистые волосы, глаза большие, синие, нос с маленькой горбинкой… и ему показалось, что он где-то Елену Егоровну видел. Напрягая память, вспомнил, что такое лицо есть на картине Иванова «Явление Христа народу».
— Когда в Могилев пришли немцы, мы несколько дней жили каждый у себя дома, — говорила она, не обращая внимания на то, как удивленно и пристально рассматривает ее Николай Кораблев. — Потом нас согнали в одно место — гетто… Обычная история. Вы, вероятно, немало такого слышали. Дня через три подали грузовики, посадили евреев — женщин, стариков, детей. Сказали: «В лагерь». Но мы вскоре узнали, что всех этих евреев расстреляли у рва за городом. Бежать? Куда бежать? И когда на следующий день подали все те же грузовики и нас погнали к ним, мы с сестрой, как-то даже не договорясь, в суматохе отошли в сторонку и ушли. Да, ушли. Пошли и пошли. Была грязь, заморозки. Мы вышли из города, и я подумала: «Куда деться?» На руках у меня Шарик, — она погладила по голове младшую дочь, — за юбку держится Машенька. Ей пять лет. Думаю: «Пойду к батюшке!»