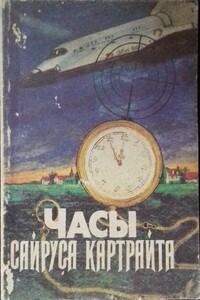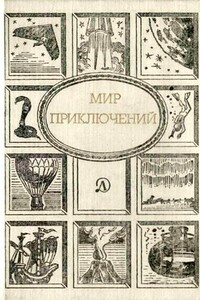— Это книга о взглядах, о точке зрения израильтян — не правительственных чиновников или важных шишек, а людей с улицы — евреев и арабов, мужчин и женщин, молодых и старых. — Стедман оживился. — Понимаете, рабби, в разговоре с чиновником вы можете услышать только официальную точку зрения, уже изложенную в правительственных сообщениях для печати. Но если вам удастся разговорить обычных людей, вы получаете представление о политической ситуации, на которой основаны официальные новости.
— А как вам это удается? — спросила Мириам. — Вы останавливаете людей на улице?
— Иногда я так и делаю, миссис Смолл, но я не говорю, что хочу взять у них интервью, потому что тогда они или замыкаются, или говорят то, чего — по их представлениям — вы от них ждете. Я стараюсь вести себя немного хитрее. Вот идет по улице человек. Я спрашиваю его, как добраться в какое-то место, которое находится в той стороне, куда он направляется. Обычно он говорит, что нам по пути, и я присоединяюсь к нему. По дороге мы беседуем, и если похоже, что это будет интересно, я включаю свой диктофон — выключатель у меня в кармане, — так что они не знают, что наш разговор записывается на пленку. А вернувшись к себе, я подписываю все пленки, чтобы в свободное время можно было их расшифровать, сравнить и отредактировать.
— Вы берете интервью по-английски, на иврите или еще на каком-то языке? — спросил рабби.
— У меня есть интервью на иврите, на идиш, на английском и даже на французском. Я прекрасно владею идиш, у меня не слишком плохой французский. И разговорный иврит тоже нормальный. Я был здесь раз двенадцать, в последний раз прожил больше года. Я бы сказал, что мне его хватает. Иногда бывают трудные случаи, как вот на днях. Мне попался интеллектуал, он употреблял слова, которых я раньше никогда не слышал. Но это еще одно преимущество записи на пленку. Я могу прослушать ее много раз и найти в словаре незнакомые слова.
— А как же вы продолжали беседу, не поняв, что он сказал?
— О, суть я улавливал хорошо. Я чувствовал, что упускаю только тонкие оттенки. Не хотите как-нибудь прослушать некоторые мои записи?
— Очень хочу, хотя не думаю, что моего школьного французского будет достаточно, чтобы понять, о чем речь.
— На французском у меня не так много, только несколько разговоров в ресторане, где бывает много сефардов из Северной Африки. Может, заглянете ко мне? Если вы не заняты завтра утром…
— Ничего срочного.
— И вы, миссис Смолл?
— Я очень хочу, но утром я должна быть в «Хадассе».
Когда они встретились следующим утром, Стедман сказал:
— Может, это даже хорошо, что миссис Смолл не смогла прийти. Втроем иногда тяжелее разговаривать.
— Пожалуй, вы правы. Между прочим, Мириам просила узнать, не хотите ли вы пообедать с нами завтра вечером. Мы будем рады, если ваш сын тоже придет. Когда вы упомянули по телефону, что он учится здесь в университете, мы рассчитывали увидеть его еще вчера.
— Он вечно занят. Я вижу его примерно раз в неделю, мы обедаем вместе. Я стараюсь не слишком вмешиваться в его жизнь. Не уверен, что он сможет прийти завтра вечером, но я спрошу.
— Завтра шабат, я думал, он свободен. Он получит удовольствие от шабатней трапезы, а я хотел бы познакомиться с ним.
— И я хотел бы, чтобы вы познакомились с ним, рабби. — Он поколебался и принял решение. — Честно говоря, я немного растерян и не понимаю, как с ним вести себя. После развода с его матерью — ему тогда было десять лет — у меня, конечно, было право на встречи, но из-за моей работы я подолгу не бывал в Штатах. Жена не позволила компенсировать потерянное время, когда я бывал дома, я не осуждаю ее, это нарушило бы нормальный ход его жизни. И в итоге мы виделись по одному дню от случая к случаю. Я старался сохранить с ним связь, писал, звонил — но это все не то. Я надеялся, что здесь, наедине, мы получше узнаем друг друга. Но он холоден и сдержан. Я не могу пробиться к нему. Иногда мне кажется, что он обижается на меня. Если я пробую интересоваться его учебой, его проблемами, пытаюсь что-то посоветовать, он ведет себя так, будто я вторгаюсь в его личную жизнь.