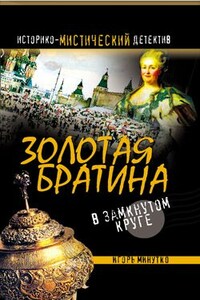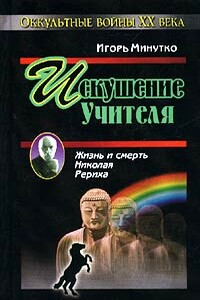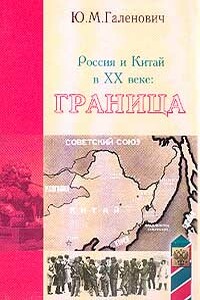В одном из кузнецов Гриша не сразу узнал отца. Он был в грубой брезентовой робе, прожжённой во многих местах, в брезентовых рукавицах, волосы были подвязаны лентой, как у священников, по лицу струился пот, пропадая в густых чёрных усах. Движения отца были ловкими, точными, но Гриша видел, как при каждом движении тяжёлого крюка напрягается всё его тело, жилы взбухают на шее, шары мышц проступают под брезентовой робой на спине и руках. Наум Александрович заметил Гришу и мать, кивнул им, подозвал молодого рабочего, тоже одетого в робу, что-то прокричал ему на ухо, передал крюк.
— Выйдем! — с трудом расслышал Гриша голос отца, когда он оказался рядом с ним.
Мальчик шагал за родителями, уже весь мокрый от пота, в прилипшей к спине рубахе. Скорее, скорее на свежий воздух! Он посмотрел вверх — высокий потолок цеха терялся в смраде и дыме, и казалось, что нет там никакого потолка, что до самого неба, до настоящего солнца — только смрад, дым, копоть и этот грохот, настигающий тебя со всех сторон, разрывающий голову на части...
Но вот дохнуло навстречу прохладой, стало светлее, впереди обозначились широкие ворота, из которых всё надвигался и надвигался естественный мир с синевой неба и шумом ветра в чахлых тополях, высаженных вдоль дороги, ведущей к цеху.
Наконец они оказались на воле.
Недалеко от ворот цеха в тени тополей было несколько скамеек.
— Сядем, Катерина, — сказал отец. — И ты, сынок, сидай да отдышись.
Гриша действительно не мог отдышаться, прийти в себя. Першило в горле, слезились глаза, и перед ним плавали растянутые замысловатые круги.
— Папа, у вас тут как в аду.
Отец внимательно посмотрел на сына.
— Это и есть ад, Григорий, — ответил он, всё так же внимательно глядя на мальчика. — И работаем мы здесь по десять часов в смену. Соображай, соображай, сынок, можно ли так с рабочим человеком...
Родители тихо разговаривали, а Гриша потрясённо думал: «Десять часов вот так! Да разве же можно это выдержать? Значит, так трудиться их заставляют хозяева завода?»
Он хотел спросить отца: как же так? Почему? Но — постеснялся.
Однако вечером Наум Александрович пришёл с работы, как всегда, аккуратно одетый, чисто вымытый, с причёсанными усами, весёлый... Некоторое разочарование испытал Гриша, возникло даже такое чувство: на заводе, в цехе, отец был богатырём, пролетарием — Гриша уже знал это слово, и оно в его детском сознании ассоциировалось с чем-то грозным, справедливым, с борьбой за счастливую долю простых людей, которые живут на его улице в рабочей слободе.
С тех пор Гриша невольно стал пристальнее присматриваться к отцу, старался вникать в суть взрослых разговоров, и оказалось, что эти разговоры и за обеденным столом, когда собирались всей семьёй, и во время встреч отца с рабочими из цеха (а они часто появлялись в доме Каминских), можно сказать, постоянно касались политических тем.
Запомнил Гриша, как отец за ужином — и было это вскоре после того дня, когда мальчик впервые увидел кузнечный цех и рабочих в нём, — сказал брату Ивану, гимназисту второго класса:
— Пока, Ваня, уразумей одно: труд человеческий всему голова. Всё, что есть на земле нашей ценного, трудом создаётся. Будь то хлеб насущный, машина какая или умная книга. Делаем вывод: кто должен быть хозяином жизни?
— Те, кто трудятся, — ответил Иван.
— Правильно! Молодец. А ты, мать, на меня хмуро-то не гляди. Подрастают сыновья. Надо их к правде поворачивать. И к справедливости. Идём, Ваня, дальше. Как нынче в России? Рабочий человек, будь то крестьянин или мастеровой, спину до седьмого пота гнёт, а хозяева кто? Земля у помещиков, заводы да фабрики у капиталистов. Робят они с нашим братом, что хотят. Несправедливо?
— Несправедливо... — прошептал Гриша.
— Так! — скупо улыбнулся отец. — Вот у нас и общий мужской разговор за столом. А с несправедливостью надо бороться. Не отдадут по своей воле помещики землю, хозяева — заводы. Что делать?
— Революцию! — сказал Иван.
— Верно, сын, революцию. — Наум Александрович помолчал. — И другого пути нету.
— О Господи! — только и сказала Екатерина Онуфриевна и стала убирать со стола самовар.